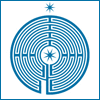
2010 © Московско-Петербургский Философский Клуб
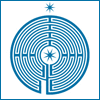
Московско-Петербургский Философский Клуб
Федеральное архивное агентство
Российский государственный архив литературы и искусства
Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»
Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде):
История в материалах и документах 1907-1917
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (ПЕТРОГРАДЕ)
История в материалах и документах в трех томах
1907-1917
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(ПЕТРОГРАДЕ)
История в материалах и документах Том 2
1909-1914
Москва Русский путь 2009
ББК 87.3(2)6
ISBN 978-5-85887-314-3(т. 2) ISBN 978-5-85887-287-0
Редакционный совет РГАЛИ: Т.М. Горяева (председатель), Л.М. Бабаева, Л.Н. Бодрова, А.Л. Евстигнеева, Т.Л. Латыпова, М.А. Рашковская, Е.Ю. Филькина, Л.В. Хачатурян, Е.Е. Чугунова
Вступительная статья
О.Т. Ермишин, О.А. Коростелев
Составление
О.Т. Ермишин, О.А. Коростелев, Л.В. Хачатурян
Подготовка текста
О.Т. Ермишин, О.В. Самоцветова,
Л.В. Хачатурян
Примечания
О.Т. Ермишин, О.А. Коростелев, С.А. Мартьянова, О.В. Самоцветова, Л.В. Хачатурян
Составление хроники
A. А. Ермичев
Составление аннотированного списка С.М. Половинкин
Художник
B. Е. Валериус
Издание подготовлено при поддержке РГНФ (в рамках научно-исследовательского проекта № 04-03-00370а),
Института современного развития (ИНСОР),
старшего вице-президента Сбербанка РФ, члена Управляющего Совета МПФК А.В. Захарова,
председателя Совета директоров
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
Д.М. Якобашвили
© Российский государственный архив литературы и искусства, 2009 © Русский путь, 2009
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Петрограде) История в материалах и документах
СЕЗОН
1909/10
ЗАСЕДАНИЕ 3 НОЯБРЯ 1909 г.
Д.С. Мережковский
Земля во рту
I
Полетим или не полетим? Это вопрос не только о воздухоплавании, но и об участии нашем в той всечеловеческой свободе, которая хочет воплотиться в крыльях.
«1695 года, апреля в 30 день, закричал мужик караул, и сказал за собою государево слово, и приведен вСтрелецкий приказ, и расспрашиван; а в расспросе сказал, что он, сделав крыле, станет летать, как журавль. И, по указу Великих Государей, сделал себе крыле слюдные (слюдяные), а стали те крыле в 18 рублев из государевой казны. И боярин князь Иван Борисович Троекуров с товарищи и с иными прочими, вышед, стал смотреть; и тот мужик, те крыле устроя, по своей обыкности, перекрестился, и стал мехи подымать, и хотел лететь, да не поднялся и сказал, что он сделал те крыле тяжелы. И боярин на него кручинился. И тот мужик бил челом, чтоб ему сделать другие крыле иршеные (замшевые?). И на тех не полетел. А стали те крыле в 5 рублев. И за то ему учинено наказание: бить батоги, снем рубашку, и те деньги велено доправить на нем, и продать животы его и остатки» («Записки» Желябужского1).
Несколько лет назад, когда я перелистывал в Амбри-азонской библиотеке «Атлантический кодекс» Леонардо да Винчи2 с рисунками летательных машин, — вспомнился мне крылатый мужик. И в этом году, в Иоганигстале, около Берлина, когда с высоты донеслось
7
03.XI.1909
Д.С. Мережковский. Земля во рту
вдруг нежное жужжание — журавлиное курлыканье моторов, и я увидел впервые человеческие крылья, серебристо-серые на темно-лиловом, вечереющем небе, и лицо человека, как лицо бога, сквозь вертящееся паутинное солнце пропеллера, — опять мне вспомнился неполетев-ший мужик.
Нет, не полетим. Пока есть то, что есть, — ни за что не полетим.
Возвращаясь в Россию, каждый раз удивляешься: дочего все заплеванное, заплюзганное, точно мухами засиженное, пришибленное, ползучее, бескрылое.
Как мастеровые в горбуновской сказочке решают: «От хорошей жизни не полетишь»3.
Разве на дырявом шаре генерала Кованько4 или на слюдяных крыльях?
II
Огорчился я, а Вяч. Иванов утешил меня*. «Мистики Востока и Запада согласны в том, что именно в настоящее время славянству и, в частности, России передан некий светоч; вознесет ли его наш народ или выронит — вопрос мировых судеб... Благо для всего мира, если вознесет».
Этот мировой светоч — «русская идея», «воля к нисхождению».
«Наши благороднейшие устремления запечатлены жаждой саморазрушения... словно другие народы мертвенно-скупы, мы же, народ самосожигателей, представляем в истории то живое, что, как бабочка-Психея, тоскует по огненной смерти».
Европейской в о л е к в о с х о ж д е н и ю, которая воплотилась в культуре «критической, люциферианской, каиновой», полярно противоположна русская в о л я к н и с х о ж д е н и ю, относящаяся к «тайне Второй Ипостаси, к тайне Сына».
* См.: Русская идея. — По звездам. Статьи и афоризмы. СПб., 1909. Книга эта, так же как все явление Вяч. Иванова, заслуживает глубокого внимания. Если бы на Невском, в сумерки, когда зажигаются электрические огни, отражаясь пестрыми столбами в мокрых тротуарах, — появилась вдруг высокая, бледная женщина, вся с головы до ног закутанная, как бы запеленутая льняными пеленами, священными повязками, — Дельфийская сивилла, — то сначала толпа удивилась бы, засмеялась: «Ряженая!» — а потом шарахнулась бы в ужасе. Такое впечатление производит к р и т и ч е с-к а я муза Вяч. Иванова в современной русской литературе.
8
ДОКЛАД
Д.С. Мережковский. Земля во рту
Вот почему народ наш — «христоносец» по преимуществу: подобно св. Христофору, через темный брод истории несет он на плечах своих младенца Христа.
Я утешен: я знаю теперь, что если мы не летим, то не потому, что не можем, не умеем, а потому, что не хотим лететь. Наше дело — нисходить, никнуть, погребаться, зарываться в землю. И надо нам отдать справедливость: мы это дело как нельзя лучше делаем.
Я утешен, но, признаюсь, не совсем.
Конечно, всякому народу лестно сказать: «Я — христо-носец». Но, во-первых, совестно: прочие народы-нехристи могут обидеться. А, во-вторых, — нисходить, так нисходить: к чему же тогда слюдяные крылья и дырявый шар генерала Кованько? За эти неудачные и самохвальные попытки не приговорили бы нас «бить батоги, снем рубашку», не только на историческом, но и на вечном Божием Суде.
«Во Христе умираем. Духом Святым воскресаем», — уверяет Вяч. Иванов. Его бы устами мед пить. Что мы вообще умираем, этому поверить легко: стоит лишь взглянуть на все, что происходит сейчас в России. Но во Христе ли умираем, — сомнительно. Во всяком случае, умирали, умерли достаточно, — пора бы и воскресать. А на воскресение что-то непохоже.
«Семя не оживет, если не умрет». Это значит: всякое оживающее семя должно умереть; но не значит, что всякое умершее — должно воскреснуть. Может и просто сгнить.
А ну, как сгнием?
III
«Ваше Высокопревосходительство, глубокоуважаемый Терций Иванович.
...Вступление Ваше в первый ряд государственных сановников кажется мне несомненным предзнаменованием некоторой общей перемены правительственных взглядов... А перемена взглядов, на которую я намекаю, важна и необходима не для меня одного, а для всей России, и не только для нее, но и для Вселенской Церкви.
Сторожат меня албанцы, Я в цепях... но у окна Зацветают померанцы — Добрый знак: близка весна.
9
03.XI.1909
Д.С. Мережковский. Земля во рту
...Меня связывает с Вами не столько единомыслие, сколько единоволие. У нас одна и та же цель: ignem fove-re in gremio sponsae Christi... Во всяком случае, чаю от Вас движения воды в нашей застоявшейся церковной купели.
Имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорный слуга, Владимир Соловьев» (Письма Вл. Соловьева. Т. 2. С. 328).
Бедный Вл. Соловьев! До какой глубины нисхождения, унижения нужно было дойти, чтобы уверовать в Терция Филиппова5, как в зацветающий померанец! Бедный пророк, поющий оффенбаховскую песенку перед этим оффенбаховским «эпитропом Гроба Господня» (церковный чин Терция)! Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет.
Ведь знал же Вл. Соловьев, с кем имеет дело. «Не петербургские же чиновники разбудят православие», — писал он в 1885 году6, за четыре года до письма Т. Филиппову. А года за три, во втором издании «Догматического развития Церкви»7, цензорская рука зачеркнула слово «Богочеловек». «Эту редкость, — замечает Вл. Соловьев, — я буду бережно хранить для потомства». И в 1886 году: «Обер-прокурор Синода, Победоносцев, сказал одному моему приятелю8, что всякая моя деятельность вредна для России и для православия, и, следовательно, не может быть допущена. — Наши государственные, церковные и литературные мошенники так нахальны, а публика так глупа, что всего можно ожидать» (Там же. С. 142).
И вот все-таки — «зацветают померанцы».
Т. Филиппов — цвет, Победоносцев — плод; один — романтик, другой — реалист. Приняв цвет, надо принять и плод.
Принял ли его Вл. Соловьев? Как будто принял.
«Существующие основы государственного строя в России мы п р и н и м а е м, как факт несомненный. Д ел о н е в э т о м... При всяком политическом строе... и п р и с а м о д е р ж а в и и, государство может и должно удовлетворять требованиям... религиозной свободы» (Грехи России9. Там же. С. 191).
Это значит: можно соединить самодержавие с православием, как с откровением совершенной истины Христовой.
10
ДОКЛАД
Д.С. Мережковский. Земля во рту
Или, говоря языком Вяч. Иванова: если в православии — воля к нисхождению, самоотречению, погребению себя во Христе — одна половина русской идеи, то в самодержавии — другая половина этой же идеи — воля к восхождению, самоутверждению, воскресению. В о Х р и с т е л и тоже? Для Достоевского, для славянофилов — да.
А для Вл. Соловьева? И да, и нет. Он спрашивает Россию:
Каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа?10
И вместе с тем полагает, что «дело не в этом», что «при всяком политическом строе» возможна религиозная свобода, а, следовательно, в последнем счете, Ксеркс не мешает Христу.
Напрасно думает он, будто бы нанес славянофильству последний удар — coup de gri^1. Православие и самодержавие, как два осуществления единой правды Христовой, — вот живое сердце славянофильства, которого не только не убил он, но и не коснулся.
И посмотрите, как это живое сердце снова забилось у Вяч. Иванова. Именно здесь, между государством и Церковью, Вяч. Иванов находится точно в таком же двусмысленном положении, как Вл. Соловьев. Тоже готов сказать: «д е л о не в э т о м».
«Наше освободительное движение, — говорит Вяч. Иванов, — было бессильной попыткой что-то окончательно выбрать и решить». Но «мы ничего не решили и не выбрали окончательно, и по-прежнему хаос в нашем душевном теле». России угрожает гибель за то, что она стоит,
.........немея,
У перепутного креста, —
Ни Зверя скиптр нести не смея,
Ни иго легкое Христа11.
Но если мы «ничего не решили, не выбрали окончательно», то, как знать, в чье имя совершается и самое нисхождение России — во имя Христа или Зверя?
1 Удар милосердия (фр.).
11
03.XI.1909
Д.С. Мережковский. Земля во рту
«Нам должно говорить не о могуществе, а о грехах России, — напоминает Вл. Соловьев. — Никакие подвиги не могут закрыть наших грехов; напротив, эти подвиги только ярче обличают внутреннее противоречие, в котором мы находимся», — «хаос в нашем душевном теле», колебание между Христом и Зверем.
Восхождение может быть каиновым, люцифериан-ским, сатанинским; но ведь и нисхождение — т о ч н о так ж е, т о ч н о в т о й ж е м е р е. Ведь вот знает же Вяч. Иванов, что нисхождение, не закрепившее силы света, — самоубийственно. — Б р о с ь с я о т с ю д а в н и з, и а н г е л ы п о н е с у т Т е б я. — О т о й д и о т м ен я, с а т а н а12.
Какое же нисхождение совершается сейчас в России? Христово или сатанинское? — Мы не решили. «Мы ничего не решили и не выбрали окончательно».
Со Христом ли погребаемся, вольно нисходим или низвергаемся насильственно, летим к черту?
В нисхождении Христовом — свобода. А свободна ли Россия нисходящая?
«Рабский народ рабски смиряется и жестокостью власти воздержаться в повиновении любит... бичев и плетей у них частое есть употребление». Эти слова Пуффендорфа13 русские цензоры вычеркнули, и Петр I восстановил.
Кнут не мука, а впредь наука. Палка нема, а даст ума. Нет того спорее, что кулаком по шее. — Это в народной мудрости, и это же в сознании просвещенных людей. «Я люблю полицеймейстера, который во время пожара и меня самого съездил бы по затылку, чтобы я не стоял, сложа руки. — Без насилья нельзя», — говорит Константин Леонтьев14. И по поводу либеральных реформ в царствование Александра II: «Не решимся ли мы просить могучего Отца (государя), чтобы в п р е д ь о н д е р ж а л н а с г р о з н е е?»
Это единственно-русское. Не столько «идея», сколько физиология — ощущение свободы, как чего-то богопротивного, — рабства, как богоугодного.
«Природа их такова, — говорит Аристотель о варварах, — что они не могут и не должны жить иначе, как в рабстве: quod in servitute boni, in libertate mali sunt»I.
1 Рожденные в рабстве, в свободе погибают (лат.).
12
ДОКЛАД
Д.С. Мережковский. Земля во рту
В свободе — грешные, в рабстве — святые. Святые рабы. Святая Русь — земля святых рабов.
IV
Первые изобретатели аэропланов, американцы, братья Вильбур и Орвиль Райт15 — сыновья пуританского епископа в городе Дайтон, в штате Огайо, — потомки тех английских пуритан, которые завоевали Новый Свет.
Верные преданию отцов своих, в воскресение, день Господень, ни за что не полетят братья Райт: в этот день молятся они, чтобы Господь благословил их святой смиренный труд, святое смиренное восхождение.
Предел восхождения, освобождения — полет. Западная культура только потому и могла достигнуть этого предела, что Господь явился ей не в «рабьем зраке», а как Освободитель народов. Царь царей, грядущий на облаках со славой и силою многою. Таким являлся Он благочестивым и вольнолюбивым воинам Кромвеля; таким и доныне является их правнукам.
Вот что для нас, русских, невообразимо. Мы уже не верим свидетельству св. Ипполита о том, что «Антихрист на небеса возлетит»16. Но мы всосали это с молоком матери; это у нас в крови, даже у самых неверующих: каин-ство, окаянство, люциферианство всякой вообще воли к восхождению, к полету. Обескрыление, обесценение ценностей. «Опрощение, совлечение всех риз», — определяет Вяч. Иванов.
Европейский путешественник XVII века рассказывает о русском пьянице17, который пропил сначала кафтан, затем рубаху, наконец, порты и, выйдя, голый, из кабака, сорвал горсть одуванчиков и «прикрыл ими свое срамное тело».
Толстовское опрощение, писаревский нигилизм, бакунинский анархизм — все русские «совлечения» — не напоминают ли эту горсть одуванчиков?
Тот же путешественник рассказывает, как пьяный священник хотел благословить стрельцов, но когда, подняв руку, наклонился вперед, голова у него отяжелела и он упал в грязь. Стрельцы подняли его, и он все-таки благословил их грязными перстами.
Когда Достоевский или Константин Леонтьев благословляют Зверя именем Христа, когда Союз архангела
13
03.XI.1909
Д.С. Мережковский. Земля во рту
Михаила18 благословляет еврейские погромы и смертные казни, — кажется, видишь это благословение грязными перстами.
«Мы обречены необоримым чарам своеобразного Диониса», — утверждает Вяч. Иванов.
Да, обречены. И в самом христианстве нашем, по преимуществу аскетическом, «совлекающем», из-за лика Христа выглядывает звероподобный лик варварского Диониса, древнего Хмеля-Ярилы19.
V
Единственный залог русского «воскресения» Вяч. Иванов усматривает в том, что «в одной России Светлое Христово Воскресение — праздник из праздников, торжество из торжеств». Или, по слову Гоголя: «в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться».
Вернее было бы сказать, не д е н ь, а н о ч ь, ибо за светлою ночью — темный день, за светым хмелем — грешное похмелье, за мгновенным полетом — стремительное падение в грязь. Сам же Гоголь заметил (Вяч. Иванов не замечает, и это для него показательно) неимоверную грусть сквозь пасхальную радость — грусть, от которой хочется «завопить раздирающим сердце воплем: Боже, пусто и страшно становится в Твоем мире!»20
И вот опять знакомое видение русского бреда.
«В Новгороде ежегодно бывает день большого богомолья, и в этот день корчмарь, или целовальник, с купленного позволения митрополита, разбивает перед кабаком несколько палаток. Здесь пьянствуют. — Одна напившаяся баба, вышедши из кабака, упала на дороге и заснула. В то же время пьяный мужик, проходя мимо, увидел лежавшую и обнажившуюся бабу, возгорел похотью и прилег к ней, несмотря на ясный день и на то, что место было на большой дороге. Прилегши к бабе, он заснул. Вскоре вокруг этой пары животных образовалась целая толпа молодых парней; они смеялись и глумились, пока, наконец, не подошел один старик, который накинул кафтан на лежавших и прикрыл срамоту их» (Олеарий. «Путешествие в Московию». 1633—1639).
В одной России Светлое Воскресение — праздник из праздников, торжество из торжеств; но и в одной России
14
ДОКЛАД
Д.С. Мережковский. Земля во рту
возможна такая срамота, как эта пара животных. Ангелы — ночью, свиньи — днем. И это не только в XVII веке.
Я никогда не забуду, как однажды, в первый день Пасхи, встретил на углу Бассейной и Надеждинской кучку пьяных, которые, шагая посередине улицы, горланили: Христос Воскресе! — вместе с чудовищной, тоже, увы, единственной, русскою бранью. И надо всей Россией, над одной Россией стоит в этот день «гул всезвон-ных колоколов»21, смешанный с матерной бранью.
Понятно, почему Лейбниц говорил о русских: «крещеные медведи»; а ученый швед, Иоанн Ботвид, в 1620 году, в Упсальской академии защищал диссертацию: «Христиане ли московиты?»22
Тут не только эмпирическая, но и мистическая противоположность европейской воли к восхождению и русской воли к нисхождению. Они и мы не понимаем друг друга именно в этом, самом главном. Если они для нас, то и мы для них — «Каины». Только они вежливее: не говорят нам этого в лицо.
Была когда-то и в Европе воля к нисхождению; но в самой глубине ее, в самой тьме средних веков не утратил Запад воли к свету, к восхождению, к Возрождению. Западный свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А наш русский — уже обнимает. Уже «хаос шевелится под нами»23. «Хаос в нашем душевном теле», — это и Вяч. Иванов чувствует.
Что, если русская воля к нисхождению — воля к хаосу?
VI
В маленьком недавнем случае со смертной казнью испанского анархиста Феррера24 выразился этот мистический рубеж между русским Авелем и европейским Каином. На одном конце Европы кого-то повесили — и вся она, как один человек, содрогнулась от гнева и ужаса. А чего бы, казалось? На другом конце — сколько вешают! Но ей до этого дела нет. Эскимосы едят сырое мясо, а русские вешают.
Однажды Европе почудилось, что и нам сырое мясо опротивело: Каин подошел к Авелю с братским приветом. Но это оказалось недоразумением — и Каин вновь отшатнулся от Авеля: живите по-своему, — во Христе нисходите,
15
03.XI.1909
Д.С. Мережковский. Земля во рту
умирайте, убивайте друг друга; мы не судим вас, — только и вы не мешайте нам жить по-нашему, по-окаянному.
И вот они летят, а мы сидим в луже, утешаясь тем, что это вовсе не лужа, а «русская идея».
Св. Христофор25 не узнал Младенца Христа, которого нес на плечах. Не так же ли Россия, слепой великан, не видит, кого несет, — только изнемогает под страшной тяжестью, вот-вот упадет раздавленная? Не видит Россия, кто сидит у нее на плечах, — Младенец Христос или щенок Антихристов.
VII
Что, если русская идея — русское безумие?
Опасность этого безумия сознает и Вяч. Иванов, но отвлеченно, бездейственно. «Опасность, — говорит он, — самоубийственная смерть — тогда, когда умирающий (нисходящий) недостоин умереть, чтобы воскреснуть. — Прежде чем нисходить, мы должны у к р е-п и т ь в с е б е с в е т; прежде чем обращать в землю силу, мы должны иметь эту силу».
Должны, но имеем ли? — вот вопрос. Если имеем, если укрепили в себе свет, то почему же «хаос в нашем душевном теле, и мы ничего не решили, не выбрали окончательно, —
Ни Зверя скиптр нести не смея, Ни иго легкое Христа?
Какой же свет там, где нельзя отличить Христа от Зверя? Какая крепость там, где хаос?
Существует предел, за которым нисхождение становится низвержением во тьму и хаос. Не чувствуется ли именно сейчас в России, что близок этот предел, что нисходить дальше некуда: еще шаг — и Россия — уже не исторический народ, а историческая падаль?
Нисхождение и восхождение, — две чашки весов: если одна поднимается с тяжким скипетром, то другая опускается не под легким игом.
Сказать: нисходим, — значит не сказать ничего, в смысле религиозной воли, религиозного действия. Действие начинается только тогда, когда нисходящий говорит: «Довольно, — пора восходить». Сейчас в России вопрос
16
ДОКЛАД
Д.С. Мережковский. Земля во рту
о воле есть вопрос о том, как относится нисхождение наше к восхождению, Русская Церковь к русской власти.
Вяч. Иванов не только не ответил, но и не поставил этого вопроса. Он смотрит, как чашки весов колеблются, и пальцем не двинет, чтобы поднять одну и опустить другую.
Нет, спасение наше не в том, чтобы, сознав себя народом-христоносцем, в других народах видеть Каинов; спасение наше в том, чтобы увидеть, наконец, свое собственное «окаянство», почувствовать себя не «христонос-цами», а «христопродавцами» именно здесь, в этой страшной воле к нисхождению, к совлечению, к саморазрушению, к хаосу; чтобы понять, что Россия, только во с х о д я щ а я, в о с с т а ю щ а я на скипетр зверя, может понести на плечах своих легкое иго Христа.
Но не мертвец, восстающий из гроба, а погребенный заживо — Россия нынешняя. Кричит, стучит в крышку гроба — и никто не слышит, только могильную землю, горсть за горстью, набрасывают и ровняют, утаптывают — холм насыпали, крест поставили. Достоевский пишет на кресте: «Смирись, гордый человек!»26 Л. Толстой: «Непротивление злу»27. Вл. Соловьев: «Дело не в этом». Вяч. Иванов: «Духом Святым воскресаем»28.
Нет, не Духом Святым воскресаю, а духом Звериным удушаюсь, умираю, — мог бы ответить погребенный. — Кричу, стучу — и никто не слышит. Уже земля обсыпалась, задавила меня. Больше не могу кричать, голоса нет. Земля во рту.
Из газетных отчетов
В Религиозно-философском об
— На 3 ноября в религиозно-философском обществе был назначен доклад члена Г<осударственной> Думы В.А. Караулова: «Вопрос о свободе совести в Госуд<арственной> Думе». Слушать его собралась на редкость многолюдная аудитория: много священников, студенты разных высших школ, в том числе многие из духовной академии, официальные представители епархиальной и синодальной властей и т.д. и т.д. Однако в самом начале была оглашена телеграмма г. Караулова, который сообщил, что вследствие продолжающего нездоровья он принужден вторично отложить свой доклад. Вместо последнего Д.С. Мережковский сделал сообщение на тему «Русская идея» (по поводу статьи под тем же заглавием г. Вячеслава Иванова). Докладчик произвел сильное впечатление на аудиторию резкой критикой основной идеи г. Иванова, что русскому народу, как народу-христоносцу, органически свойственна «воля нисхождения», т.е. религиозное смирение, даже рабство во всех мыслях, поступках и действиях. Г. Мережков-
ский прямо заявил, что такое положение вещей ведет народ к самой страшной неминуемой гибели. При этом им очень подробно обрисовано это символическое нисхождение с точек зрения политической и общественной. В перерыве можно было наблюдать несколько групп, образовавшихся в публике главным образом из священников и оживленно обсуждавших доклад. Первым возражал докладчику сам г. Вячеслав Иванов, отметивший полное единомыслие свое сг.Мережковским во всех пунктах, касающихся существа дела с точки зрения религии, т.е. православия. Затем им была подробно развита его «русская идея» в отношении к «самодержавию» и ко всей общественной жизни России. Какого-либо пессимистического вывода, однако, г. Иванов никоим образом не признает. Епархиальный миссионер г. Боголюбов пытался также сказать несколько слов о какой-то «большой оговорке», которую надо сделать к докладу г. Мережковского, но, в чем заключается оговорка эта, он так-таки и не объяснил.
18
ЗАСЕДАНИЕ 24 НОЯБРЯ 1909 г.
А.А. Каменская
Теософия и богостроительство
I ч.
Необходимость определить, что такое Теософия, и необходимость освободить Теософию от ложных представлений. Вытекающие отсюда тезисы:
1. Теософия не есть необуддизм.
2. Теософия не есть материалистический пантеизм.
3. Теософия не есть искусственно созданная эклектическая религиозно-философская система.
4. Теософия есть вселенский научно-религиозный синтез.
a) Учение о Логосе.
b) Учение о Пути как базис этого синтеза.
c) Мировые основы этики1.
II ч.
1. Богостроительство и Теософия.
2. Важность переживаемого момента.
3. Миссия Теософии.
Часть I
Прежде чем коснуться позиции, занимаемой теософией по вопросу о Богостроительстве, совершенно
1 Подпункты a-c объединены лигатурой.
19
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
необходимо прежде всего определить, ч т о т а к о е теософия, и освободить ее от тех ложных представлений и несправедливых предубеждений, которые мешают русскому обществу понять все ее значение, как движения, имеющего свое определенное место в истории духовной эволюции человечества. Разумеется, в кратком реферате нельзя очертить во всей полноте такое всеобъемлющее миросозерцание, как теософия, и я заранее извиняюсь, если многих сторон едва коснусь, некоторых не коснусь вовсе. Я здесь попытаюсь лишь указать на ее объединяющую силу и на мировое ее значение, на всю глубину ее научно-религиозного синтеза и на те источники, из которых она черпает свое вдохновение. Но предварительно попытаюсь выяснить суть тех недоразумений, о которых сейчас упоминала. Теософию не знают, и потому ее постоянно смешивают то с необуддизмом, то с пантеизмом. Одни видят в теософии опасную и научно-необоснованную мистику; другие — тонкий рационализм, лишенный всякой мистики; третьи — наивную попытку создать нового рода эклектическую систему, которая представляет ничто иное, как механическое соединение чуждых друг другу, но искусственно подведенных под теософический синтез, самых разнообразных элементов. Все эти предубеждения вытекают из полнейшего недоразумения. Попытаемся их разобрать.
1. Теософия не есть необуддизм
Предубеждение против теософии, как системы, порожденной буддизмом, получило отчасти свое начало в известной статье В. Соловьева29, написанной 17 лет назад, когда Теософическое движение лишь возникало. Оно поддерживалось и заглавием книги г. Синетта «Эзотерический буддизм»1 30, долго считавшейся настольной книгой теософов. В то время не было еще многочисленных теософических трудов Анни Безант31, Ч. Лед-битера32, д-ра философии Р. Штейнера и д-ра философии Т. Паскаль. Классическое сочинение самой Е. Блаватской, «Secret Doctrine» (Тайное Учение)33 было написано значительно позже и появилось в печати перед самой ее смертью (в 1891 г.). III том появился даже после ее смерти. Заглавие книги г. Синетта ввело многих в заблуждение,
I В оригинале: будхизм. Также в тексте встречается написание: буддхизм, Буддха. Далее исправление не оговаривается.
20
ДОКЛАД
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
ввиду того, что для понимания его было необходимо знание санскритских корней. Дело в том, что это заглавие (от корня budh — мудрость) надо читать, как «Сокровенная Мудрость», а не как «сокровенный буддизм» (от корня Buddh'a) в смысле религиозно-философской системы Гау-тамы Будды. Это недоразумение подробно выясняется в «Введении к Тайной Доктрине», которое уже появилось на русском языке в сборнике, посвященном памяти Е.П. Блаватской34. В этом же сборнике печатается письмо ее к покойному В. Прибыткову, редактору «Ребуса»35, вкотором она горячо протестует против обвинения, будто бы она и другие теософы проповедуют буддизм. Она указывает на §§ устава Теософического общества36, который вообще воспрещает теософам что-либо пропове-дывать или провозглашать одно учение выше другого, так как это шло бы вразрез с обещанием терпимости, которое дает каждый теософ, поступая в Теософическое общество.
B настоящее время, когда богатая теософическая литература уже доказала, с какой любовью и серьезностью Теософия изучает эзотеризм всех великих религий, как брахманизма, буддизма и зарострианизма, так и христианства, такой упрек в замаскированной пропаганде буддизма уже невозможен по крайней мере для тех, кто более или менее знаком с движением.
2. Теософия не есть материалистический пантеизм
При переходе к вопросу о пантеизме не надо забывать, что пантеизм есть двоякий: 1) материалистический, признающий, что вне мира нет Божества, Бог как бы вылился в свое творение и там пребывает; 2) глубокодуховный пантеизм, признающей весь мир, как проявление Единого, проявление Той Вечной Жизни, которая скрывается за покровом всех форм. По этому мировоззрению Божественный Источник жизни пребывает над миром, вне его. В Св. Писании Индии Бог говорит: «Отдав частицу Себя на проявление мира, Я остаюсь»37.
Первого вида пантеизм по существу тождествен с материалистическим монизмом. С ним теософия ничего общего не имеет.
Второй пантеизм теософия принимает, так как по ее учению вселенная есть частичное и периодическое проявление Всеединого: она утверждает
21
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
существование Вечного Начала, познаваемого через Его проявления. Ритмически сменяются периоды деятельности и покоя. В первичной субстанции жизнь раскрывается 2-мя полюсами: дух—материя. Всюду перед нами единая жизнь и единый закон, не хаос в вихре бесцельно несущихся атомов, а закономерно развивающийся космос. Сама смерть есть лишь новая форма проявления жизни, наступающая тогда, когда жизнь, износив один физический покров, разрывает его и облекается в новый.
Таким образом, теософия признает единство Божества и закономерное развитие мира и человечества. Эволюция человека состоит в том, что Эго приобретает опыт и что физический проводник его делается все более и более способным отвечать голосу живущего в нем духа, пока не обретет полную свободу и не сольется с Божеством. Очевидно, что такая задача не может быть выполнена в течение одной жизни. Отсюда учение о перевоплощении, тесно связанном с учением о карме, т.е. о непреложном законе причинности, по которому следствие неизбежно следует за рождающей его причиной и в свою очередь делается причиной новых следствий.
Карму можно с полным правом назвать и законом причинности, и законом сохранения энергии в мире духовном. Неизбежным выводом из учения о Едином Мировом Духе, общем источнике всего существующего, является положение о глубокой солидарности человека с человеком, т.е. о реальности всемирного братства Сынов Божиих без каких бы то ни было перегородок, искусственно воздвигаемых между людьми, перегородок расовых, национальных, религиозных, классовых, половых и т.п. Таков тот светлый, одухотворенный пантеизм, который именует себя Теософией и который можно назвать идеалистическим монизмом.
3. Теософия не есть искусственно созданная эклектическая религиозно-философская система
Теософия утверждает, что идеалистически монизм, как целостная доктрина, существовала в древности, что она заключается в сокровенной части всех религий мира, в их эзотеризм, который раскрывался посвященным в мистериях. В рядах этих посвященных мы находим Платона, Пифагора, Евклида, Демокрита, Фалеса,
22
ДОКЛАД
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Солона, Аполония38, Ямвлиха39 и некоторых учителей ранней христианской Церкви. Когда позже, с торжеством церковного начала, древняя мудрость была забыта, от времени до времени не переставали являться в христианском мире посланники, ученики, великие мистики, которые во имя «духа живого» боролись с «мертвящей буквой» и вливали живую струю в грозящую закристаллизоваться веру. Эти мистики владели «гнозисом», т.е. пили у источника Эзотеризма и передавали духовное ведение дальше, своим ученикам. Если такая тайная мудрость во все века существовала, а ее существование безусловно доказывается как традицией мистиков, так и сравнительным изучением религий, то само собой падает и обвинение в том, что теософия есть какая-то искусственная эклектическая система, механическое соединение несоединимых элементов. Теософия есть эта вековая мудрость имиссиятео-софии в настоящее время дать человечеству ключ к ее сокровенному источнику.
4. Теософия есть вселенский научно-религиозный синтез
Из всего вышесказанного ясно вытекает, что теософия есть вселенский научно-религиозный синтез, научный потому, что она опирается на законы, признанные наукой (закон сохранения энергии, закон причинности, закон эволюции), — религиозный потому, что, кладя в свою основу изучение религиозного эзоте-ризма всех времен и всех народов, она тем самым объединяет и все мировые религии. В основе этого религиозного эзотеризма лежат следующие истины:
1. Единое, Вечное, Непознаваемое, Реальное Бытие. Это Первоисточник без предиката, То, что назвать нельзя и перед чем можно лишь молча и благоговейно преклониться.
2. Из Него — проявленный Бог, раскрывающийся из единства в двойственность, из двойственности в Троицу.
3. Человек, как отражение проявленного Бога, в основе своей тоже троичен. Его истинное и реальное «Я» вечно и едино с «Я» вселенной.
4 и 5. Эволюция человека путем постепенного раскрытия его божественных свойств. Познав мировой закон любви и слившись с ним, человек делается божественным в проявлении, как он был всегда божествен в скрытом состоянии.
23
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Наиболее ярко вырисовывается основное единство мировых религий при анализе учения о Логосе, учения о Пути и вдумчивом изучении мировой этики. Рассмотрим, во-первых: a) Мировое учение о Логосе.
В христианской космогонии 2-ое лицо Св. Троицы именуется Логосом. Принято считать, что христианское учение о Логосе заимствовано у философа александрийской школы, Филона, в свою очередь заимствовавшего его у греков. У Гераклита (460 л. до Р.Х.) мы встречаем это учение ясно формулированное. Греческие философы верили, что Верховный Разум, Логос, осеняет материю и что частица Его находится в душе каждого человека. Логос стал посредником Трансцендентной Первопричины и феноменального мира, как бы мостом между Богом и миром. В руках Филона это учение получило новое развитие. Божественный Разум был им назван «Единородным Сыном Божьим», «Божественной Мыслью», сделавшеюся плотью. В IV Евангелии это выражение употребляется по отношению к Христу, а не к Иисусу из Назарета, Сыну Марии, к Христу, который являл Собою воплощение Божественного Разума в человеке.
«В начале бе Слово и Слово бе Бог».
Но задолго до неоплатоников и задолго до возникновения греческой философии мы находим в Св. Писании Индии, в Ведах, определение Бога, как «Господа Слова, Господа Мысли и Разума», т.е. Логоса. Так, санскритское слово «ВгШаэрай» образовалось из глагола «Brih» или «Barh», что означает: проявляться; из этого корня произошли латинское слово «^еЛит»» ианглий-ское слово «Word»n. «Рай» означает Отец, Господь. Следовательно, «ВгШа8рай» значит «Господин, или Отец Слова». Его синоним <^ас!1а8рай» имеет совершенно тождественное происхождение. «Vachas» или «Vak» (отсюда латинское Vox) означает слово. «^ас11а8рап» означает: Господин или Отец Слова. В одной из Упанишад* мы читаем: «Vak va Brahma», т.е. «Слово было Брахманом»40 (Слово было Бог — абсолютом). Далее такое определение: «То, из чего все вещи родились и чем живы, когда родились и куда они возвращаются и вступают после смерти или разруше-
I Слово (лат.).
II Слово (англ.).
* Brihadaranyaka Upanishad.
24
ДОКЛАД
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
ния, есть Брахман». Там же: «Посредством Своего Разума, Он соединился со Своим Словом». Еще интересны следующие места:
«В начале Божественное Vak, или Вечное Слово, без начала и конца, состоящее из Мудрости, было произнесено Самосущим Единым, от Которого начались все деятельности».
«Все мыслимые вещи имеют начало в слове, или вечной идее Божественного Разума».
В поэме «Махабхарата»41 мы читаем: «Тот, Кто Существует Сам Собой, сперва изрек Слово, Божественное Слово без начала и конца, о котором мы читаем в Ведах. От него же зачалось все развитие мира».
Под «Словом» Ведические мудрецы подразумевали не только звук, но и Божественную Мысль Творческого Разума. Разум был Отец; Слово было его Единородным Сыном. В свете этого учения, Божественное Совершенство на земле является воплощением Слова. Рама, Кришна, Будда чтимы в Индии, как Божественные люди, воплощение Слова.
Таким образом, мы видим, что учение о Слове (Логосе) имеет арийское происхождение:
Мы читаем в Г^Л^а:
«Единородный, перед началом материальных явлений, был принесен в жертву. Девы, боги и ангелы пришли, чтобы привести Единородного в жертву. Они пригвоздили Его к жертвеннику, освятили Его и, распяв Его в вечном пространстве, они принесли Его в жертву. От этой жертвы возникло все, что существует на земле и на небесах».
Известно, что древний жертвенник имел форму креста.
Ориенталист Джон Лэнди в своем философском труде «Памятники христианства» так комментирует это место Вед: «Это очень похоже на Агнца, закланного до основания мира, которому поклоняются все ангелы Господа».
Эту идею о божественном жертвоприношении мы находим в различной форме: в древнем Египте, в религии Заратустры, в Иудействе, в философии Эллады и в школах пифагорейских, платоников и неоплатоников.
Таким образом, мы имеем право сказать, что учение о Логосе есть учение всемирное, присущее религиозному эзотеризму всех времен и всех народов.
25
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Теперь перейдем к b) основам мировой этики.
Переходя от метафизической части мировых религий к мистической, к мировому учению о Пути, мы должны прежде всего указать на основные черты этики эзотеризма по отношению к этике экзотерической.
Все Учители мира имели два учения: одно для толпы, другое для ближайших учеников, посвящавших себя апостолату. Одно было учение для человека, которому надо было до совершенства развить все ч е ловече-ское; другое — для человека, который сознательно исвободно становился на Путь Б о г о ч е л о в е ч е с т в а. И потому первое является основой для мировой этики; второе — для мировой мистики.
В чем же заключается основа мировой этики? Во всем том, что должно помочь человеку погасить свою дурную Карму, нейтрализуя ее новыми добрыми силами (т.е. благородными мыслями, чувствами и деяниями). Иными словами: во всем том, что должно освободить человека от низшего его полюса, зверя, чтобы тяготение к высшему, Богу, могло получить реальное осуществление. И потому, во всех религиях мира, очищение помыслов и желаний, любовь, чистота и милосердие, составляют азбуку духовной жизни. Следующая ступень заключается в замене зла добром.
«Чистые мысли, чистые слова, чистые дела», — говорит Заратустра, и его слова делаются священной формулой, повторяющейся во всех молитвах парсов.
«Благословляйте проклинающих вас», — говорит Кришна. «Ненависть не побеждается ненавистью, ненависть побеждается только любовью», — говорит Будда.
«Отвечайте добром на ненависть, — говорит Лао-Цзы^, — рассматривайте трудность, когда она еще легка. Обращайтесь с большой вещью, когда она еще мала».
«Кто герой? Превращающий в друга врага своего», — говорит Талмуд.
«Сострадание есть закон вечной гармонии, закон вечной любви», — говорит Рамакришна.
«Совершеннейший из людей тот, — говорит Магомет, — кто любит всех ближних своих и делает им добро без разбора, хороши ли они или дурны». Девиз Магомета был: «Совершенство религии состоит в желании добра другим».
IВ оригинале: Лао-Тсе. В дальнейшем исправление не оговаривается.
26
ДОКЛАД
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
«Благословляйте проклинающих вас и молитесь за оскорбляющих и гонящих вас»42, — сказал И<исус> Христос.
Почему такое поразительное сходство в религиозной этике всех наций и времен? Потому что эта этика не красивый и случайный вымысел той или другой яркой индивидуальности или плод углубленной работы нескольких гениальных мечтателей: она есть неизбежное проявление в жизни того духовного ведения, которое ясновидцы духа обрели на высших планах бытия. Точно так, как из элементов данного уравнения непременно должна вылиться та или другая математическая формула, так и из знания космических законов неизбежно вытекает незыблемая основа мировой этики. Там, где этика колеблется и где подрываются ее основы, там, очевидно, утеряно знание тех мировых законов, на которых она зиждется.
Совершенно ясно, что там, где это ведение есть, этика проникнута глубоким единством своих требований. И потому религиозный эзотеризм всех времен и народов учит человека закону любви.
Теперь перейду к мировому с) учению о Пути (к мировой мистике).
По учению эзотерическому личность человека, так же как и физическое тело, умирает, но высшее, сверхличное «я» не умирает: оно собирает ценный опыт, накопленный в течение многих воплощений, и совершенствуется, готовясь к восхождению по пути к сверхчеловеку, по пути Богочеловечества, по выражению Влад. Соловьева. Весь смысл мистики, т.е. учения об этом Пути, заключается в выяснении методов, которые ведут человека к высшему типу. Для всякой эволюционной ступени есть свои определенные законы жизни; по этим законам развивается высший тип, и эти законы лежат в основе мировой мистики.
У обыкновенного человека главным мотивом его жизни являетсяего личное начало.У человекавыс-шего типа таким центральным мотивом деятельности является «духовное», т.е. сверхличное начало. Эволюция в душе человека этого сверхличного начала и есть путь восхождения к «богочеловеку»: она заключается в постепенном перемещении центра сознания в область высших, сверхличных переживаний, в укреплении его
27
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
и затем слиянии всех внутренних сил человека с этим образовавшимся духовным центром. Отсюда полное тождество всех учений о Пути, тождество восходящих ступеней: на Востоке они именуются: Очищение, Просветление, Сила единения. Названия их на Западе: PurgativaI, Illuminativan, Unitivam (или с гр.: очищение, научение, действие). К ним ведут «Семь Врат». Эти «Семь Врат» или «Семь Ключей» мы находим и в Восточной и в Западной мистике. Для полного выяснения этого важного вопроса я приведу 2 схемы, как они рисуются в эзотерическом буддизме и в Веданте и сопоставлю их с христианскими ступенями, как они намечены у нашего Православного подвижника, о. Феофана*.
Ступени, намечаемые в Веданте:
1. V^ka — различие между вечным и преходящим.
2. Vairagya — отречение от всякой награды в этом мире и будущем.
3. Shama — власть над умом (сюда входят спокойствие, сосредоточенность, терпение).
4. Dama — власть над поступками (сюда входят терпимость, незлобивость, отречение).
5. Полная вера (Shaddha).
6. Полное равновесие (Samadhana).
7. Стремление к освобождению (Moksha) (Mu-moksha).
Ступени в эз<отерическом> буддизме:
1. Ключ милосердия и любви бессмертной (Dana).
2. Ключ гармонии между словом и делом (Shila).
3. Кроткое терпение, ничем не возмутимое (Kshanti).
4. Бесстрастие, побеждение иллюзий (Vairagya).
5. Непобедимая энергия (Virya).
6. Непрестанное созерцание (Dhyana).
7. Достижение богоподобия, Слава (Praguya).
I Очищающий (лат.).
II Озаряющий (лат.).
ш Объединяющий (лат.).
* «Письма о христианской жизни» (Очищение сердца).
28
ДОКЛАД
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Христианские ступени: (es. orth<odox> grec):
1. Богупреданность (неизменный закон для идущих к Богу).
2. Трезвение, подвиг внимания. (Оно распадается на: а) Стояние умом в сердце в присутствии Божьем, b) углубление, вникание.)
3. Мирное расположение ко всем, даже к врагам.
4. Нерасхищение мыслей.
5. Согласие внешнего человека с внутренним.
6. Неустанный труд.
7. Завершение подвига («Тогда станешь владыкою своих сил»у.
Во всех этих схемах мы видим полную аналогию требований, хотя порядок требуемых свойств несколько изменен.
Так как путем выработки этих свойств нужно не только переменить и установить новый центр сознания, но и укрепить его, то «ученику» (как принято называть подвижника в теософической литературе) предстоит неустанная духовная брань до самого достижения последних врат, после которых человек делается уже более чем человеком. Об этой духовной брани мы встречаем одни и те же описания в мистике Запада и Востока.
Так, у о. Феофана, в главе «Очищение сердца»*, христианин уподобляется воину, выступающему во всех своих доспехах и вооружении на поле сражения. Тонким и глубоким символизмом проникнуто это описание вооружающегося воина. Затем о. Феофан говорит о результатах сражения. Плоды брани: крепость духовная, духовная мудрость, чистота... Христианин восходит на степень освященных: ничто не препятствует больше благодати раскрыться в нем в полной мере. «Кончится ли когда сия брань здесь?» — спрашивает подвижник и отвечает отрицательно. Поэтому он советует воину никогда не останавливаться, не отдыхать и не засыпать. Снова и снова возобновляется битва: на земле ей нет конца.
I Вдр. месте есть вариант: №6и7: необременение заботами житейскими и непривязанность ни к чему земному. * «Письма о христианской жизни».
29
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
В параллель к этому описанию возьмем отрывок из книги «Свет на Пути», ярко отразившей настроение Восточной мистики:
«Снова и снова битва должна быть выиграна: природа может затихнуть только на время...» А дальше: «Стой в стороне, когда настанет битва, и хотя ты будешь сражаться, не ты будь Воином. Найди Воина и пусть он сражается в тебе. Воин этот ты сам, но ты — преходящий и подлежишь заблуждениям, а он вечен. Он есть вечная истина. Если он раз проник в тебя и стал твоим Воином, никогда уже не покинет он тебя вполне; а в день великого Мира он сольется с тобой во-Едино»43.
Этих цитат достаточно для выяснения того единства, которое лежит в основе мировой мистики, т.е. той части религиозного эзотеризма, который является духовным деланием и символизуется в религиозной мистике словом Путь, тот Путь, «врата которого узки и тесны» по выражению Евангелия.
На основании всего сказанного, мы утверждаем, что Теософия есть вселенский, научно-религиозный синтез. Во II части мы остановимся на ее позиции по отношению к русским духовным исканиям и на ее миссии.
Часть II
Для II части своего доклада я воспользуюсь выдержками из своей статьи: «Миссия Е.П. Блаватской», которая помещена в Сборнике, посвященном ее памяти, так как в этой статье я касаюсь вопроса, которому посвящен этот доклад. Прежде всего для того, чтобы верно очертить позицию теософии по отношению к современным русским духовным исканиям, надо ясно поставить вопрос об объединяющем творчестве теософии. В силу этой своей черты она никогда ничего не противопоставляет, а находит место и примирение всем исканиям света. Так, «Богоискание» и «Богостроительство», которым было посвящено столько бесед в Религиозно-философском обществе в СПб. и которые так резко противопоставлялись некоторыми ораторами, находят свое примирение в теософии, которая учит, что для гармонического раскрытия развивающейся жизни в историческом процессе
30
ДОКЛАД
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
рост сознания должен совершаться параллельно с эволюцией формы. Дух должен раскрываться и тянуть за собой форму; форма должна совершенствоваться, повинуясь растущему в ней сознанию. И потому мировая этика одинаково охватывает, как личную мораль, так и общественную. Разъединение и противопоставление их, с точки зрения теософии, не выдерживает критики, так как она лишь проявление здесь духовного ведения, обретенного на высших планах.
Разъединять и противопоставлять друг другу эти части одного целого, как это постоянно делает наша журналистика, так же несообразно, как вынимать камни из строящегося дома и противопоставлять их этому дому. Такое противопоставление указывает на непонимание неразрывной связи законов и мировых явлений и на полную оторванность человека от вселенной, оторванность, из которой вытекает весь трагизм душевных переживаний современного человечества. Тщательно отстраняя все то, что не поддается непосредственному чувственному восприятию, и искусственно разъединяя физический мир от всех соприкасающихся с ним сфер, мы наводим на него, как в фокусе, яркий свет электрического фонаря, а затем ужасаемся и недоумеваем, почему этот ярко освещенный обрывок действительности, который мы так искренно мечтаем превратить в рай, вызывает в нас такое глубокое чувство неудовлетворенности, и невольно напрашивается тоскливый вопрос: «Будет ли когда-нибудь человек счастливее?»
Люди с сильным общественным чувством обыкновенно отвечают: «Будет ли человек счастливее или нет, мы не знаем: это не наше дело; наше дело — строить дом, чтобы было где укрыться от непогоды. Мы не мечтатели, а только строители».
По силе любви и отречению, труд «строителей» несомненно отмечается печатью свыше, печатью духа. Эта печать и дает им право на гордое наименование «богостроителей». Каковы бы ни были утилитарные платформы строителей, творчество их несомненно имеет религиозный источник, так как движущий их категорический императив есть мотив сверхличный, т.е. сила идеальная. Но как бы идеально ни были настроены строители, их работа не
31
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
может быть прочной, если они не будут ясно видеть, что кладут в основу своего здания. Для разумного строительства зрение нужно не меньше энтузиазма. А видят ли пламенные строители, на чем они строят, если они так упорно разъединяют явление с его источником, если, не признавая Бога, они хотят осуществить Его правду?
Отделять Бога от Его Правды, Любовь от проявлений любви, это то же, что желать отделить Солнце от его лучей. Бог есть духовное Солнце вселенной, и те силы, которыми мы пытаемся заменить Его (любовь, красота, правда), — ничто иное, как видимые лучи Его. Те, кто ищут Бога и не пытаются внести Его Правду в жизнь, не знают Бога; и те, кто пытаются осуществить Его Правду на земле, отрицая Его Самого, также не знают Его. Бого-искание и богостроительство неудержимо сливаются воедино в душе того, кто нашел Бога в себе, кто нашел незримые нити, соединяющие нашего скрытого Бога с Богом вселенной. Ибо богоискание и богостроительство сливаются в богопознании, а познать Бога человек может, только познав самого себя. Познав себя, свое «высшее я», человек свободно и сознательно становится на тот путь истинного богостроительства, который В. Соловьев называет «богочеловеческим процессом», а теософия именует «путем ученичества».
Для исцеления и обновления жизни нужно нечто большее, чем любовь и сострадание: нужны знание и вдохновение. Не только художники и поэты, но и деятели во всех сферах жизни должны стать жрецами и пророками. Это относится и к нашим строителям. Величайшее из всех искусств, искусство строить жизнь, требует для своей творческой работы боговдохновен-ных строителей, не простых архитекторов-любителей, а пророков и жрецов, способных видеть и понимать те силы, которые они будут вкладывать в свое творчество; сознательно управляя ими, они будут вполне сознательно и творить новую жизнь.
Лучшие русские люди не способны без отчаяния отделять Бога от воплощения Его правды. Истина без Добра и Красоты для них так же невозможна, как и Добро без Красоты или Красота без Добра. Не в этом ли кроется тайна тоски, так сильно гнетущей душу многих наших общественных деятелей?
32
ДОКЛАД
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Мы переживаем совершенно особое время; время, когда рушатся веками утвержденные авторитеты, когда происходит переоценка всех ценностей, всех идеалов, а над кажущимся хаосом разрушения уже проносится веяние новой, могучей жизни. Утеря путей, страстное искание, колебание между гордым самоутверждением и столь же пламенным самоотрицанием, все это явные признаки того, что в человечестве совершается какой-то кризис, что оно стоит на пороге новых и чрезвычайно важных переживаний. Рассудочная культура, достигшая на Западе своего апогея, не в силах более удовлетворить человека; она должна уступить место новой, высшей культуре. Каждой культуре соответствует известная ступень сознания, а раскрытие нового сознания сопровождается настоящими родовыми муками духа, муками, при которых неминуемо происходит полная утрата гармонии. Возьмем один из многих признаков этого перелома: так называемый «кризис индивидуализма». Этот кризис, отмеченный и в социологии, и в психологии, и в литературе, есть ничто иное, как явно выраженный переход от обособленной жизни к единению всечеловеческому, отражение в общественной психологии великого космического момента. В этом свете и социалистические теории и стремления суть лишь проекция на физическом плане того великого духовного преображения, которое готовится совершиться в иных сферах бытия. Зарождающиеся формы общественности неизбежно выльются в жизнь вслед за новым сознанием человечества, но социальное преображение установится на твердых основах только тогда, когда оно выльется, как естественное последствие обновления, одухотворения человечества, а не тогда, когда оно опередит сознание. «Мир не должен быть спасен насильно»44, — сказал В. Соловьев. Мы бы сказали: «мир не может быть спасен насильно», — ибо условие духовного творчества есть свобода. Свободно и радостно творить новую жизнь может только религиозное сознание.
В свете теософии раскрытие сознания совершается в том же порядке, как и раскрытие Божества, ибо человек есть храм Бога живого, «град Брахмы». Сперва проявляется Св. Дух деятельности; затем рождается Сын Божий, мудрость (знание и любовь), Св. София; наконец проявляется Воля Отца, Которая совершает
33
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
то, что духу раскрылось в знании и любви. Таков венец эволюции.
Св. Дух деятельности уже раскрылся в человечестве. В высшей степени ярко сказался он в западноевропейском творчестве. В настоящий момент мы стоим накануне раскрытия нового начала, того, о котором молится апостол Павел в словах: «Дети мои... я снова в муках рождения, доколе не изобразится в Вас Христос» (посл<ание> к Галатам, IV, 19; ср. также посл<ание> к Ефесянам, IV, 13). Христос, которому суждено родиться в нас, это тот пламенный дух единения, который разбивает все стены между нациями и людьми и который творит новую жизнь, основанную на братстве и любви. Этому духу одинаково чужды и партийные распри, и национальная вражда, и религиозный фанатизм, потому что все стены пали, все — люди братья: одни просветленные, другие еще не прозревшие, но все — дети единого Бога.
Достоевский и В. Соловьев, которым был близок Дух Христов, говорят о «вселенском христианстве» в противоположность «домашнему и храмовому» христианству, т.е. внешнему. «Истинная Церковь, которую проповеды-вал Достоевский, — говорит В. Соловьев, — есть всечеловеческая прежде всего в том смысле, что в ней должно в конец исчезнуть разделение человечества на соперничествующие и враждебные между собою племена и народы. Все они, не теряя своего национального характера, а лишь освобождаясь от своего национального эгоизма, могут и должны соединиться в одном общем деле всемирного возрождения»45.
Все религии мира призывали к этому всечеловеческому единению, над всеми витал св. дух единения, дух «Христа», и каждая религия давала, в зависимости от исторического момента и особенностей данной культуры, божественное откровение об этом славном единении, об этом рождении Христа грядущего. Экзоте-рически все религии разные; в сокровенной своей глубине они дают одно и то же духовное ведение, одну и ту же Теософию. Неисповедимость Первопричины, имманентность проявленного Бога, учение о духовной эволюции и вытекающее отсюда учение о Богочеловечестве, таковы основы религиозного эзотеризма всех времен и всех народов. Центральное место в нем занимает ожидание
34
ДОКЛАД
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Христа, учение о «св. дитяти, которому суждено родиться в сердце человечества», о «скрытой жемчужине в глубинах человеческого сердца», о «белом лотосе», который «дремлет под водами Майи» и которому суждено «подняться над Майей» и распуститься в цветок божественной красоты и славы. Этот цветок, эта жемчужина, это с в я т о е д и т я , это то высшее начало, которое уже раскрылось в апостолах и пророках и которое готовится к рождению в душе всего человечества.
Истина многогранна и сверкает в каждом духовном движении, в каждом искреннем порыве человеческого сердца. В бесконечности разнообразны проявления этих отдельных лучей, но все они из единого белого Света. Пока человечество развивало св. дух деятельности и работа творческого разума проявлялась в созидании рассудочной культуры, то естественно и неизбежно на первом плане стоял дух анализа, критицизма, самоутверждения и обособления. Эгоцентрическая тенденция ярко сказывалась и в культе личности, и в национализме, и в религиозной розни. Все это проявление самости во всех сферах бытия, на всех «планах», по теософической терминологии. В свете Теософии все это явления данной ступени, ибо в проявленном мире нет абсолютного зла и добра, а есть лишь Правда осуществляющаяся и Истина, к которой мы двигаемся. То, что идет с эволюцией, — добро; то, что противится ей, — зло, иного определения нет. Человечеству нужно было пройти через период крайнего обособления и самоутверждения, потому что в нем должно было во всей полноте своей раскрыться личное, интеллектуальное начало. Но теперь, когда человечество подходит к поворотному пункту и вступает в новый фазис развития, оно должно подняться над эгоцентрическим сознанием и вступить в сферу сверхличных переживаний. Вот почему синтез должен был заменить анализ; настало время привести воедино разбросанные сокровища Добра и Красоты, собрать рассеянные лучи божественного многогранника и зажечь ими ту звезду, которая всегда загорается на небе в минуты великих исторических кризисов, в час космического перелома. Такую минуту мы переживаем, и в ней кроется вся сила и значение Теософического движения.
В современной русской литературе немало было споров о «человекобожестве» и «Богочеловечестве», при-
35
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
чем первое ставилось как идеал, выразитель современных брожений; второе — как совершившийся исторический факт. Но для теософа то, что в истории было исключительными подвигом Богочеловека, является лишь прообразом того высшего Пути, на который суждено сознательно и свободно стать всему человечеству. Учители сострадания уже совершили этот путь; мы стоим на пороге его. И именно потому, что мы стоим на пороге, именно потому явилась в мире Е.П. Блаватская и создала Теософическое движение, которое не отнимает ни у одной религии своего венца и потрясающей силой своего синтеза заставляет всех признать загоревшуюся на небе звезду духовности и всем протянуть руку, как братьям по духу, как детям одного Отца. Вместе с Vacte шесиш Pastoral*, Е. Блаватская могла бы произнести:
«Вместе с язычниками, поклоняющимися восходящему солнцу, и с магометанами, молящимися с вершин своих минаретов, с евреями, обращающими все молитвы к Новому Иерусалиму, и с христианами, которые молятся перед Распятием, я каждое утро повергаюся ниц перед зарей и громко восклицаю: Восходящее на Востоке Солнце Правды, Свет Мира, я поклоняюсь тебе!»
Alba
* См. В<естник> теософии. 1908. Апрель. Теософия во Франции.
Прения
Д.В. Философов.
Председательствовать будет Константин Дмитриевич Кудрявцев. К.Д. Кудрявцев (Председатель).
Я смущен, господа, той неожиданной честью, которая выпала на мою долю, — председательствовать в столь важном, с моей точки зрения, заседании Религиозно-философского общества; смущен я потому, что этой чести я совершенно не ожидал и еще менее заслужил ее. С своей стороны, предварительно выслушиванию того доклада, который поставлен на повестку, я считаю потребностью своего сердца высказать серьезную, глубокую признательность и благодарность Совету Религиозно-философского общества за ту возможность, которую он дал всем нам, — выслушать доклад о теософии и по мере возможности рассеять все те недоумения или недоразумения, которые витают около этого слова «теософия». Теперь мы попросим Анну Алексеевну Каменскую изложить ее доклад.
А.А. Каменская читает доклад «Теософия и богостроительство». Председатель. (По прочтении 1-й части доклада.)
Мы не будем делать перерыва сейчас, дослушаем весь доклад до конца, а потом будет перерыв. А.А. Каменская.
Для второй части своего доклада я воспользовалась... (Читает.)
37
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Председатель.
Желающих участвовать в прениях я попросил бы записаться во время перерыва. Теперь объявляю перерыв на 10 минут.
Перерыв.
Господа, прошу занять места; мы сейчас начнем. Час поздний; времени мало у нас. Будьте добры занять места. Заседание продолжается. Слово принадлежит Вячеславу Ивановичу Иванову. <В.И.> Иванов.
Я не знаю, будут ли мои замечания носить характер возражений или, быть может, скорее, по форме, недоумений и вопросов. Как бы то ни было, мне хотелось бы высказать несколько мыслей, которые мне явились при выслушивании доклада. Мне кажется, что в этом докладе недостаточно ясно была проведена грань, которая разделяет термины «теософия» и «теософическое общество». Быть может, и у некоторых из слушателей могли возникнуть по этому поводу сомнения. Слову «теософия» мы можем придавать или тот, постоянный смысл, в каком это слово употреблялось во все века — смысл мистического «гнозиса» вообще, или же мы можем соединять со словом «теософия» значение того учения, которое мы находим в теософическом обществе. Судя по тому изложению, какое мы выслушали, нужно скорее думать, что нам представлено некоторое синтетическое и обобщающее изображение принципов, господствующих в современном теософическом обществе. Правда, целью доклада было указать, что теософия всегда была единой по существу. И, однако, если даже мы перечислим целый ряд общих черт, все же мы будем логически не вправе сглаживать или игнорировать черты различий между отдельными доктринами издревле существовавшей теософии и, следовательно, остережемся преждевременно отождествлять их, помня, что такое отождествление может оказаться обезличением и искажением. Итак, поскольку мы имеем дело с теософическим учением, — я употребляю слово «теософия» в его старинном исконном смысле, напр<имер>, беру учение Экхарта и Бёме^ неоплатоников, герметиковп, индийских
I В стенограмме: Эккардта и Бэме.
II Так в стенограмме.
38
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
мудрецов и т.д., — мы имеем перед собой разнообразные типы теософического мышления, теософического миросозерцания, и, конечно, эти типы теософического миросозерцания между собой отнюдь не тождественны. Можно, конечно, сделать попытку объединить все теософические учения и школы и подчеркнуть общие черты, которые существовали во всех теософических учениях и школах. Но в результате такого объединения мы едва ли будем иметь тот синтез единомыслия, который мы только что выслушали; едва ли можно будет, например, охарактеризовать всю теософию в ее мировом смысле, как непременный «идеалистический монизм», или прийти в определении Божества и некоторых истин, связанных с учением о Божестве, именно к той формулировке, какую мы выслушали. Нет, различия здесь, вероятно, будут преобладать над сходствами во всем, что касается чистого философствования. Напротив, сходство будет поразительное, когда вопрос будет идти о «Пути» как учении о задачах и организации внутреннего опыта. В вопросе о Пути можно утверждать, что все эзотерические учения говорят об одном Пути и что стадии этого Пути характеризуются приблизительно одинаково, точно так же, как приносят одинаковые плоды просветления личности и ее возвышения. Но, несомненно, частные доктрины существенно различны в такой степени, что даже в вопросе о Пути, по существу безусловно едином для всех, мы заметили, однако, — я имею в виду сведения, сообщенные в самом реферате, — ощутительную разницу между буддийским учением, с одной стороны, с другой — христианским. Таким образом, мы услышали в этом докладе изложение, отвечающее, быть может, удовлетворительно на вопрос: что такое теософическое общество по своей идейной платформе или догматическому содержанию, — но отнюдь не изложение всей теософии, как совокупной доктрины вместе и Будды, и Магомета, и Заратустры, и Пифагора, и христианских мыслителей в ее основных чертах, общих всем мистическим учениям и т.д. Желание непременно и во что бы то ни стало все соединить, несомненно, сопряжено, как всякий синкретизм, с большой опасностью. Мы можем не оставить неискаженным ни одного из этих учений, если мы так неметодично, так просто субъективно будем смешивать одно учение с дру-
39
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
гим. Но, понятно, Путь духовного роста и высветленияI личности один, и основные этапы его одинаковы.
После этой оговорки я позволю себе обсуждать дальше, каково кредо теософического общества. И здесь начинаются у меня не возражения, а недоумения. Мне бы хотелось, чтобы Анна Алексеевна определенно сказала, прежде всего, что такое теософическое общество по своей природе. Оно являет, при ближайшем рассмотрении, такие черты, которые, по-видимому, обличают притязания теософического общества выступить в роли Церкви. Итак, я бы спросил: Церковь ли теософическое общество, или не церковь. Этот вопрос решающий: не зная этого, я не могу говорить собственно об остальном. Если это Церковь, тогда, следовательно, она либо отдельная от других религиозных общин община, либо Церковь, обнимающая собою, как нечто высшее, все другие частные церкви — низшие, потому что они представляют собою неполноту истины; и это последнее утверждение заставит тех, кто знает иную Церковь, отвратиться от теософического общества, как только они поймут, что последнее приписывает их «церкви» значение относительное и служебное, а не безусловное и окончательное. И это надо выяснить, чтобы дать возможность свободно выбирать между теософическим обществом и Церковью. Вот мне и хотелось бы, чтобы мы были поставлены перед необходимостью этого выбора. Я не боюсь возбудить подозрение, что таким предложением вношу дух разногласия и объявляю себя как будто не сочувствующим тем высоким принципам, которые теософическое общество выставляет на своем знамени, говоря о братстве всех народов, о братстве всех людей. Излишне говорить, в какой мере это для религиозной мысли, для религиозного чувства желательно; но если я христианин, то знаю, .II что полнота истины обретается только в одной Христианской Церкви и моя воля ко вселенскому единению в Боге становится волей к восприятию всеми людьми истины в ее полноте, т.е. ко вселенскому торжеству Церкви Христовой. Так я буду рассуждать, если я христианин. Если я буду видеть, что остальные люди не могут принять истину в ее полноте, то это не помешает мне все же братски
I В стенограмме: высветения.
II Пропуск в стенограмме.
40
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
общаться с ними, стремиться усвоить себе плоды их достижений и в свою очередь делиться с ними результатами моего внутреннего опыта, ибо внутренний опыт один. Одним словом, братское общение с нехристианами нисколько не устраняется верностью Церкви, как высшему и безусловному откровению и осуществлению божественной правды; но особое и таинственное общение членов единого Тела Христова, каковым ощущает себя Христианская Церковь, само собою разумеется, невозможно с нехристианами для христиан. Если бы христианин поступал иначе, то это был бы христианин без Церкви, индивидуально чувствующий и тем самым не вполне христианин, но некто, приемлющий только часть благодати; ибо истинный христианин не может себя чувствовать иначе, как одним из атомов того Тела Христова, которое есть Град Божий. Не может христианин одновременно принадлежать Церкви Христианской и вне-христианскому союзу, утверждающему себя как церковь. Если же теософическое общество представляет собой только общество, полезное для разработки важных предметов, касающихся религиозного сознания, мистического опыта и т.д., то тогда спорить с теософическим обществом нельзя. А между тем чувствуешь себя как-то неспокойно в своем душевном отношении к теософическому обществу. Происходит это оттого, что оно недостаточно ясно себя определяет. Я не знаю, желательно было бы теософам, чтобы христиане рассматривали теософическое общество, как подготовительную ступень для тех, кто родился в кругах, которым недоступно христианство, чтобы мы смотрели на них, как на внешнюю, хотя и усовершенствованную школу — школу катехуменов46. Я думаю, нет. «Нет религии выше истины», говорят они. Они говорят, что необходимо уничтожить искусственно воздвигнутые рамки, разграничивающие народы и религии, т.е., напр<имер>, мусульманство и христианство. Но христианство не согласится признать свою ограду искусственным ограждением. Если церковь ограждает себя от вторжения посторонних тел, то это суть темные тела; она не хочет, чтобы они мешали: тогда истинное тело пропадает. Теософическое общество склонно трактовать религии так, что она их абсолютные ценности превращает в относительные и условные. Я полагаю, что
41
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
это было бы изменой со стороны христианина, если бы он вступил в теософическое общество под условием такого компромисса и такого примирения, при котором христианство сравнивалось бы с другими религиями, как равная ценность. Это не дух фанатизма, это радость на обретенную жемчужину; так именно, как радостно обретение жемчужины, должно быть и христианство для христианина, и не должно говорить о так радующемся, что он фанатик. Но раз христианин будет заниматься и чужими истинами и от братского общения не уклоняется, то он не фанатик. Таким образом, я утверждаю, что теософическое общество либо есть просто общество, как, напр<имер> географическое, для изучения истин духовной жизни, или теософическое общество есть община, объединяющая все человечество, обладающая знанием истины, имеющая в себе присутствие Духа Святаго и располагающая таинствами. Хотя эти таинства и посвящения не открыты всем теософам, но, тем не менее, именно существование этих мистерий подчеркивается членами теософического общества, как некая высшая санкция их духовного делания. На этом зиждется иерархическое подчинение Учителям, — и все эти черты, мне кажется, достаточны для того, чтобы характеризовать теософическое общество, как Церковь. Все предикаты, которыми мы определяем нашу Церковь, находятся и в теософическом обществе. Мне хочется это установить. Я или христианин, или член теософического общества, как общины духовной. Я — христианин, и поэтому я не член теософической общины, поэтому быть мне там не должно и не по душе при всем братском общении.
Председатель.
Вячеслав Иванович поставил ряд вопросов. Так как я думаю, что другие ораторы выдвинут еще несколько вопросов и удобнее на все вопросы ответить сразу, то я предложу выслушать следующих записавшихся ораторов и затем уже, когда накопится несколько вопросов, тогда ответить на них сразу. Слово принадлежит <К.Ф.> Жакову.
К.Ф. Жаков.
Я вполне согласен с главными положениями многоуважаемой докладчицы, но, с другой стороны, предвидя бесчисленные возражения, которые еще не устра-
42
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
нены, был бы очень рад и было бы очень интересно узнать, как это устранится. Во-первых, с точки зрения гносеологической еще, говорят, не доказано, что существуют объективные вещи, даже не доказано, что существует чужая душа; мы знаем только свои ощущения, свое я. Если бы оставить так это положение, то как говорить о какой-то Церкви, о каком-то знании. Может быть, кроме моего я, ничего нет. Следовательно, каждый теософ должен опровергнуть это. Я полагаю, что я опроверг только для себя. Сейчас я не буду толковать, как опровергаю, а только думаю, что наши познания должны стремиться к пределу, т.е. к знанию вещей, так как мы знаем только приблизительно. Это мой ответ, а интересно, как другие ответят, те, которые исповедуют теософию, это мы сегодня послушаем.
Затем возражения со стороны науки. Говорят ученые, что планеты упадут на солнце, и солнцаI друг на друга, и образуется всемирная планета и будет высочайшая жизнь. Но астрономы говорят, что это явление механического происхождения, а не божественного. Как устранить это. Конечно, есть совершенствование мира, но это не Логос, а механическое осложнение строения мира. Науки говорят, что вещества нет и силы нет, а есть энергия и тенденция к развитию. Как доказать, что развитие дело мирового разума. Интересно знать, как думают теософы. Да, это очень важно. Есть возражения такого характера: ведь мы видим в мире несколько категорий — пространство, время веществ, где же единство, где же Бог. Есть энергия, есть пространство, есть дух, а нет Бога. Надо разнообразие свести к единому. Соловьев и другие говорили, что это единое выражается в мире постепенно, и это нужно доказать, потому что атеизм сейчас развивается очень быстро и отвечать чувством всех только нельзя. Таким образом, мы видим, что существуют необыкновенно важные возражения. Да, многие допускают, что это прогресс в том смысле, как теософы говорят, но возможен взгляд социологический, а не мировой, что мы стремимся любить друг друга, но это только на земле. Это есть социология и не доказательно для всего мира. Как мы слышали сейчас в возражении В.И. Иванова, начинается борьба религий.
I В стенограмме: солнце.
43
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Где гарантия того, что одну религию можно вознести до высшей религии. Ведь эгоизм так силен, что даже проявляется в защите своей собственной религии; каждый говорит «моя религия верна, а твоя не верна». Как мы преодолеем этот эгоизм, который существует даже в высших формах нашего духа. Со своей стороны, конечно, я думаю, что все это будет устранено теософией. Я полагаю, что это именно есть формула Вселенской Церкви. Я для того говорю, чтобы указать, как лучше победить эти затруднения, потому что о них приходится много думать, и надо думать следующее: что философия в виде теософии есть уже последняя стадия мысли. Как ни странно, наша мысль приходит к концу. Если это будет подтверждено, если это абсолютное знание, то нам некуда идти, нам остается тогда изучать отдельные планеты, отдельных людей и тогда принцип будет ясен. А раз это верно, то совершенно верно сказала докладчица, что тогда начнется миссионерство. Кабинетная мысль сделала свое дело. Соловьев так и думал, начнется проповедническая деятельность, чтобы собрать все Церкви в одну, побеждающую эгоизм. Конечно, если это ясно, то мы преодолеем и вражду религий и вражду сословий, и многоуважаемая докладчица совершенно права: только этим путем мы разрешим все вопросы. Кроме того, насколько я постиг Достоевского, Соловьева и других, они находят, что именно Россия должна дать почин в этом деле. Славянофилы говорили, в чем наша миссия, миссия народов славянских, отличающихся широтою своей натуры, они предвидели нашу деятельность — социальную, моральную и религиозную. И, по-видимому, Достоевский и Соловьев, великие люди России, такого именно направления; и можно вполне надеяться, что теософия найдет у нас почву, и, может быть, нам дано завершить это культурное дело; распространить принцип такой сверхличной религии, сверхличного Бога на все народы и объединить их в одно, потому что у всех народов была своя миссия, а мы ничего не совершили; это принадлежит славянской натуре, склонной к поэзии и к религиозному вдохновению. И тогда мы действительно увидим один язык, одно чувство и мысль при разнообразии языков внешних, увидим гармонию индивидуальностей. Одним словом, увидим то, о чем мечтали
44
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
великие умы всех веков. Позволю себе сказать, что мы приближаемся к той горе великой, которой вершина лобызается лучами восходящего солнца, но у меня нет ни слов, ни образов, чтобы указать, какой подъем должен быть, если проникнуться принципами теософии. Хотя я не принадлежу к этому обществу, но, к удивлению, слышу то, о чем думал я всю жизнь, поэтому я предоставляю вам самим, милостивые государи, проникнуться величием грядущего, которое завершит историю земли; я чувствую огонь дыхания этого грядущего, которое вознесет нас в горние пределы и даст нам то бесконечное чувство, которое при этом возможно, и несомненно это будет вместе с познанием принципа, что мы бессмертны, что мы странники не одной земли, а всей вселенной.
Председатель.
Д.С. Мережковский хотел поставить несколько вопросов докладчице.
Д.С. Мережковский.
Это заседание наше есть результат отчасти моей оплошности, того, что я в прошлом году сказал несколько совершенно для меня самого неожиданно вырвавшихся жестоко оскорбительных слов по поводу теософии, которую я в сущности не знал и не имел ни малейшего основания говорить этих слов и с тех пор (я буду каяться), с тех пор я совершенно не познакомился с теософией, хотя имел некоторые случаи, читал статьи в присланных журналах, но почему-то это меня не интересует совершенно. Выслушал я сегодня доклад этот, и все-таки у меня осталось, как Бодлер говорит — мрачное нелюбопытство, не тянет меня туда. Мне бы хотелось узнать, почему меня не тянет, но некоторые интонации возбуждают во мне неистовство, желание говорить вещи нетерпимые, фанатические. Для чего. Люди о добре говорят; за что я на них воспламеняюсь какой-то непонятной мне самому ненавистью. Но должен признаться, что сегодняшнее наше заседание было не вполне бесплодно и для меня в этом отношении, а именно — прекрасная речь В.И. Иванова мне кое-что выяснила, и тяжесть гнета моей вины, которая, сознаюсь, остается, она с души моей сняла часть этой тяжести. Я начинаю кое-что понимать, мне забрезжило уже понимание, в
45
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
чем тут дело, почему действительно добрые на добрых могут вдруг так разъяряться; я начинаю понимать. И вот мне бы хотелось сообщить в виде вопроса, не потому ли это, что мы не понимаем друг друга и нельзя ли столковаться в том отношении, что хотя теософы беспощадно любезны и всех принимают в свои объятия, и я подвергаюсь участи попасть в их объятия, но они могут понять, почему я не желаю подвергаться этому, и, может быть, если я начну действовать, то я могу возбудить с их стороны некоторое деятельное отталкивание.
Смех в публике. Так вот это выяснение взаимных отношений можно, мне кажется, продолжать. Я вовсе не считаю теософию явлением незначительным; мне кажется, это явление существенное и значительное; движение теософическое, хотя я совершенно извне смотрю, но я ясно вижу, что оно захватывает не только в Западной Европе большие круги, но и у нас, и это недаром. Мне кажется, что нечто совершенно соответственное этому теософическому движению есть другое, параллельно с этим развивающееся у нас в Европе, еще не начавшееся у нас, о котором мы только что начинаем смутные вести получать, это движение в Европе недостаточно и неопределенно, называется прагматизмом. И вот мне кажется, что, сравнивая эти два веяния — движение теософическое и прагматическое, можно, господа, понять значение обоих ясно. Сущность прагматизма слишком долго объяснять, но, мне кажется, она станет понятна, если одно слово дать, как руководящее: это есть по преимуществу философия, но не столько философия, как религия; это явление не философское, а психологическое, это есть по преимуществу религия действий, т.е. такая религия, которая первый момент считает за действие, отнюдь это не исключает сознания, созерцания; нельзя действовать слепо, но тем не менее прагматизм говорит, что в религии первый момент есть не созерцание, не понимание, а воля. Т.е. для того, чтобы понять какую-нибудь самую абстрактную, отвлеченную, догматическую истину, для этого недостаточно услышать учение о ней или умственно воспринять, а для этого надо ее пережить на опыте. В каждой религиозной истине есть волевая сущность и, собственно говоря, сущность иррациональная, которую
46
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
свести к полному сознанию нашему, безусловному сознанию нельзя, а есть некоторые иррациональные сущности, которые и составляют главное ядро этой истины, и тут-то вся динамика, и тут заключение в сторону воли, в сторону действий: только на основании того, что я сделаю, я пойму, что это истина. Я могу обманывать себя, я могу думать, что я знаю истину, но пока я не совершил действия, это иллюзорно. Я должен сделать для того, чтобы понять эту истину. Мне кажется, что в этом отношении теософия полярно противоположна этому. Конечно, теософы будут это отвергать; они будут утверждать, что для них действие самое важное, столь же важное, как созерцание. Но здесь неясность. Тут видна для людей, в действии находящихся, ясна позиция созерцательная или действия у других людей, и, мне кажется, в некоторых намеках теософического учения все-таки ясно, что именно эта противоположность сохраняется, что она реальна, что это не есть тенденция. Тут действительно в том докладе, который мы только что выслушали, была такая фраза, что все-таки без сознания действовать нельзя, что нужен первый момент — сознание, а затем — действие, сначала созерцание, а потом действие. Вот, мне кажется, тут и заключается центральный пункт, как можно действовать без сознания. Думаю, что тут мы подходим к самому коренному вопросу о первом действии, об источнике всех остальных действий. Если не было такого действия, которое выходит из порядка причин, причинности, если не было источника всех действий единого действия, то понятно, что нам нельзя действовать без сознания, т.е. я хочу сказать, что если не было действия единого, сверх-есте-ственного, чудесного, то нам причащаться к действиям иначе нельзя, как через созерцание, через понимание, через разум, сознание. Но если было одно действие, которого разум наш вместить в полноте не может, одно действие, которое совершилось, но против разума, но помимо разума, то, понятно, эта точка зрения только находится в этом едином действии. Мы уже потом можем из него переходить и к дальнейшему развитию нашего сознания. Если был совершен один опыт вне всяких других опытов реальных, мы можем уже переходить из этого первичного действия к дальнейшим, к следую-
47
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
щим действиям помимо сознания. Это в сущности есть вопрос о том, что такое явление Христа. Тут я и хотел бы предложить вопрос совершенно конкретный и ясный: есть ли для теософов явление Христа действие единственное, или это только одно из действий, т.е. есть ли лицо Христа среди всех лиц человеческих единственное, не только сравнительно с простыми смертными, но и со всеми проявлениями, хотя бы Логоса, т.е. того, что теософы называют Логосом, Магомета, Шакьямуни, различных толкователей различных откровений, есть ли лицо Христа лицо единственное или это одно из звеньев. Может быть, Он выше Орфея, Магомета, Сократа и т.д. Но, может быть, являются новые действия, тоже понимаемые созерцанием, но выше, нежели Христос, т.е. закончен ли главный процесс этого единения действия. Совершилось ли одно действие, абсолютно освобождающее человечество от закона причинности. Явился ли в мире новый феномен, новое Явление. Конечно, Явление это с большой буквы, т.е. Явление всех явлений. Действие всех действий. Лицо всех лиц. Я — единственное Я. Тут я позволю себе сравнение. Что такое, собственно говоря, Богочеловечество вот как действие, не как понимание, а как действие, как реальное откровение. Мне кажется, это можно было бы сравнить или провести аналогию с процессом, который совершается, в сущности говоря, во всей мировой эволюции, даже с процессом евангелическим. Современные психологи будут, конечно, оспаривать точку зрения абсолютного индивидуализма; они будут утверждать, что в человеке много «я», не только 2, 3 или 4, а бесконечное количество «я», и что наше единое «я» — точка «я», «я» — последняя точка пирамиды, что это иллюзорно, что это есть, как свобода, воля, как Бог, как бессмертие души и т.д. И психологи совершенно по-своему правы; но я не хочу утверждать, что никакое религиозное миросозерцание немыслимо без утверждения этого единого «Я» в человеке, т.е. этой единой монады, которая подчиняет все остальные монады в моем теле. Я, может быть, говорю слишком отвлеченно.
Г-жа Писарева.
Да, да, очень.
<Д.С.> Мережковский.
Что же делать.
48
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Постараюсь говорить понятнее. Так вот я продолжаю. Нужна такая религиозная, в сущности научно невменяемая, но религиозно совершенно необходимая единая монада в человеке для того, чтобы человек мог жить; как нужна свобода, воля, как нужно понятие о Боге, потому что тогда только может начаться творчество. Для религии, ясно, нужно понятие «я», нужно не только «я», но нужно, чтобы человек сознал себя, т.е. имел некоторый взор, на себя обращенный; как у Толстого где-то сказано: «Я — я». Вот, собственно, главнейший момент, т.е. чтобы он сознал себя, чтобы его «я» обратилось на себя, потому что недостаточно одного «я», а нужно вторичное «я». Что же, собственно, в этом смысле Действие всех действий. Явление всех явлений — Богочеловек. Мне кажется, по аналогии с отдельными организмами, очень многое выясняется и для всемирной истории. Мне кажется, центральной монадой всего человечества, единственной и есть Христос, это есть Лицо, впервые явившееся в человечество. Он точно так же, как и рождение Адама, это то и есть рождение Адама, Адам есть человек, который себя угадал, который говорит: «Я — я»; то, что совершилось в человечестве, то, что Он есть рождение Адама, есть вместе с тем рождение Христа в человечестве; но это не есть рождение Младенца Христа в виде прообраза. Это я утверждаю, на этом я настаиваю. Разумеется, не прообраз для нас наше личное «я», т.е., что я Дмитрий Мережковский. Если бы это сделалось для меня прообразом, я бы совершенно устремился по другой линии религиозных переживаний, я бы тотчас же начал отрицать свой прообраз и утверждать, так как я не хочу быть прообразом, а хочу быть истиной, то не буду я в себе, а буду в Боге, истинном «Я»; и тогда начнутся, как было сказано, переживания, будет самоотвержение, самопожертвование, слияние с Богом; поскольку я себя отрицаю, постольку я сливаюсь с Богом. Мое самоотречение — это есть шкалаI буддийских переживаний, имеющих очень много общего с христианскими, но совершенно нехристианских. Как часто самое параллельное опасно для подлинного, так точно нет ничего опаснее для христи-
IВ стенограмме: скала.
49
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
анства, чем буддистские переживания, отрицающие «Я». Ведь Христос есть учение абсолютного «Я», «Я» единственного; мало того, во Христе — никто с этим спорить не будет: это слишком ясно даже при теперешнем понимании христианства, — во Христе дано совершенно абсолютное причащение; во Христе мы все лица и притом лица вечные, неуничтожаемые, неуничтожаемые до такой степени, что утверждается не только наше бытие духовное, но даже наше бытие телесное, наше бытие во плоти, т.е. утверждается абсолютная личность в максимуме, утверждается максимум всякой личности, ее единственность, незаменимость, ее не прообразность, а ее воплощенность, то, что всякая личность есть единственная, вечная, незаменимая грань как бы бесконечного многогранника — вот этого лика Христова. Теперь совершенно ясно, для меня по крайней мере ясно, и, если можно, я объясню, почему мне представляется теософия явлением в совершенной степени параллельным христианству и совершенно ему враждебным. Вячеслав Иванович спрашивает, так или не так. Я думаю, что предлагать вопросы теософам бесполезно: именно потому, что они теософы, они всегда будут отвечать, что это не так, что они на самом деле с христианством согласны, и тут, конечно, начинается безнадежность, тут надо обращаться не к теософам, а к тем, кто приближается к теософам, кто имеет в сторону теософии уклон. Мне кажется, здесь надо предостерегать без жестких слов, но предостерегать: смотрите, вы идете не туда, куда нужно; вам предлагается нечто подобное христианству, но это личина, за этой личиной совершенно другое лицо, лицо, которое сами теософы не видят, и у них мелькает много лиц — то Магомет, то Будда, то Шакьямуни. И вот я думаю, самое поразительное в теософии, и тут конкретное отличие ее от христианства, это то, что составляет нерв христианства, самый жизненный нерв, это — проблема о зле. Проблема зла так поставлена в христианстве, как ни в одной религии не поставлена. Здесь я приведу вам примеры: в истории буддизма вопрос о зле устранен, он весь углублен в созерцании; сущность язычества, как нам представляется, это анархическая свобода. И действительно, понятие о зле нигде так не углублено, как в христианстве, и в христианстве дано понятие,
50
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
по-видимому, очень грубое, которое мы теперь иногда считаем как бы варварством; это понятие — вечная погибель, понятие ада, тьмы кромешной. Устраняется ли оно из теософии. Нет, и там есть карма, и там есть страдание бесконечное, почти бесконечная ответственность, но чего-то действительного нет, нет того ужаса особого специфического, который только в христианстве существует, нет того раскрытия лица зла, которое, мне кажется, все-таки существенно нужно для прагматической религии, нет именно этой возможности вечной погибели. Это не значит, что вечная погибель неразрешимый вопрос о вечных муках. У Оригена было предчувствие47, что и в христианстве этот вопрос разрешится; у мистиков, кончая Достоевским, можно указать предчувствие, что вопрос о вечной погибели должен быть разрешаем не так, как в Церкви разрешается. Но вот что существенно: христианство об этом всегда молчит, а теософия, собственно говоря, на знамени своем написала: «все спасены, все прощены, не бойтесь». Вот весь тембр голоса у теософов. Христианство по существу трагично и пессимистично; оно говорит: «бойся, очень страшно, неблагополучно». Выслушав сегодня доклад, у меня было именно такое ощущение: все благополучно, все спасутся; пройдем всякие фазисы, но всем нам будет хорошо. Может быть, и всем, но сейчас я этого знать не могу и не только не могу, но и не должен, и не только не должен, но и не хочу. Почему я этого не хочу. Потому что есть знания... (Обращаясь к кому-то из публики.) Вы не согласны. Вы хотите говорить. Пожалуйста. Может быть, Вы возразите что-нибудь очень существенное. Итак, я продолжаю. Здесь, напр<имер>, была сказана такого рода фраза, что вы простираете свои объятия всем. И вот я сейчас спускаюсь с неба на землю и в реальном положении при теперешних наших силах в борьбе со злом я откровенно говорю, что или это добро пустая фраза, а нет ничего опаснее, как пустое добро, или же это такая святость, которая мне совершенно недоступна, т.е. до такой степени <не>доступна, что просто делайте со мной, что хотите, но я абсолютно не понимаю, как я простру мои объятия Иуде Предателю, как я простру объятия Азефу48. Я не только не простру им объятий, но у меня возникает желание убить, убить как бешеную
51
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
собаку, я считаю, что это желание есть самое святое, и все, что мешает мне это сделать и говорит: «успокойся, не горячись», все, что дает, так сказать, валериановые капли, мне кажется каким-то ядом, ядом паралича, который уничтожает самую сущность, самый нерв религии. И я все-таки не жестоким голосом, а совершенно спокойно, с полнотою добра, с полной откровенностью утверждаю, что за маской теософии скрывается дух небытия совершенно такой же, какой дух небытия скрывается за маской социал-демократической религии, за Богостроительством. Совершенно то же самое происходит и в социал-демократическом Богостроительстве, и в теософии, — происходит уничтожение личности и там, и здесь, ибо самое ненавистное для духа небытия есть лицо, лицо единое, единое «Я», и всеми силами они стараются разрушить это лицо миллионами величин, пролетающих пред нашими глазами. И вот одна из этих бесчисленных величин — есть теософическое общество, ложная церковь.
Рукоплескания.
Председатель.
Слово принадлежит Е.Ф. Писаревой.
Е.Ф. Писарева.
Предо мной такое огромное количество всяких вопросов и особенно яркие последнего оппонента г-на Мережковского; начну с самого начала: с оппонента г. Вячеслава Ивановича Иванова. Г-н Иванов ставит такой вопрос: Церковь ли теософия или общество, и затем, если она Церковь (кажется, так), то в каком отношении она находится к Христианской Церкви. Теософия не есть Церковь, теософия есть синтез всех религий, основанный на эзотерических учениях этих религий, тот синтез, который так раздражает г-на Мережковского; на заявление В.И. Иванова, который чрезвычайно твердо поставил вопрос, что раз он христианин, то он не может быть теософом, я — как раз наоборот заявляю: я христианка, и именно вследствие этого для меня гораздо ближе была теософия, и я перешла к теософии именно через этот мост; если бы я была материалистка, если бы я не чувствовала себя человеком религиозным, и ищущим религии, то я
52
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
не могла бы перейти к теософии. И поэтому я считаю этот вопрос чистейшим недоразумением со стороны В.И. Иванова. Кроме себя, я знаю много истинных христиан, которые, не доверяя догматам, приводящим в смущение разум, как, напр<имер>, догмату о вечных мучениях за короткую жизнь, икоторые мучились так называемыми проклятыми вопросами жизни, не освещенными Христианскою Церковью, для этих людей, которые не успокоились на существующих догматах Церкви, теософия имеет огромное значение: она им помогла перейти через этот мост, помогла, нисколько не отдаляя от той религии, к которой клонились они и своим воспитанием, и кровью, и нервами, и всем, что делает личность человека национальной, — помогла им вернуться в Церковь, но вернуться уверенными, что есть Бог, и что все догмы, которые отвращали их от Церкви, не более как догмы человеческого ума, несовершенного, а потому и сузившего истину, но который, все более и более эволюционируя, познает под конец божественную правду в такой степени, чтобы дать себе полный отчет в том, во что он верит. Вот что приблизительно мне хотелось ответить на этот вопрос В.И. Иванову. Затем г-н Иванов говорил о радости обретенной жемчужины.
Председатель.
На этот специально вопрос В.И. Иванов хочет внести поправку.
В.И. Иванов.
Я сказал, что я не могу быть членом теософического общества, потому что я христианин. Мое впечатление такое, что теософическое общество присваивает себе черты Церкви, но если бы оно притязало быть только обществом, занимающимся исследованием многих вопросов, которыми занимались мыслители Церкви, тогда, конечно, ничто не помешало бы мне в том, и я полагаю, что теософией следует заниматься для того, чтобы сделаться лучшим христианином, но принадлежать к теософическому обществу я считаю несовместимым с принадлежностью к Христианской Церкви. <Е.Ф.> Писарева.
Но это недоразумение.
53
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
<В.И.> Иванов.
Вы говорили о ваших занятиях теософией.
<Е.Ф.> Писарева.
Я повторяю, что это недоразумение. Но теперь мне поможет следующий диспутант — г. Жаков, который совершенно так же ставит вопрос и совершенно правильно его разрешает в противоположность В.И. Иванову, который смертельно боится стать не единственным сыном Господа Бога и желает отмежевать христианство, как наиболее привилегированную религию, от всех других, менее привилегированных или, может быть, совершенно отдаленных от Господа Бога. Г-н Жаков ставит этот вопрос широко и говорит, что человечество должно идти ко Вселенской Церкви, что это идеал, который поставил сам Христос, идеал, к которому человек будет стремиться тогда, когда он начнет очищаться от разных ограничений: — от семейной исключительности, от честолюбия, от своей расы, своей церкви, своих симпатий, наконец, своих индивидуальных страстей, когда человек начнет становиться выше личности, он придет необходимо к Вселенской Церкви. Что это значит — к Вселенской Церкви? Вселенская Церковь означает ту Церковь, которая приняла бы всех без различия. Об этом идеале, несомненно, мечтали все лучшие русские люди. Нельзя иначе понять ни мечтаний Достоевского, ни мечтаний Вл. Соловьева, как мечты о соединении в одну Великую Церковь всех Церквей. Это вовсе не значит, чтобы буддист, браманист или поклонник талмуда совершенно изменили тем откровениям, через которые каждый из них подошел к Богу; это значит, что все те лучи религиозные, которые существуют в настоящее время во всем мире и проявились в виде откровенных религий, что они сольются в полноту, и в этом смысле теософия дает такой ответ, что Христос есть наибольшее проявление этой полноты уже потому, что Христос появился более зрелому человечеству. Это отчасти объясняет и чрезвычайно интересный вопрос, затронутый г-м Мережковским, который делает такое сопоставление: что теософы на своем знамени написали: «все спасены», а Христос написал: «бойтесь». Да, теософия говорит, что все будут спасены, но чтобы понять весь смысл этого ее утверждения, нужно указать на учение теософии об эво-
54
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
люции. Теософия смотрит на всю жизнь, как на единую, и на все этапы ее как на отдельные страницы единой книги, тогда как западное мировоззрение в своем ослеплении уверено, что христианство есть все, а остальные религии — ничтожные придатки; но теософия выделяет христианство из всех остальных потому, что когда Христос явился человечеству, последнее достигло большей зрелости, оно стало более самостоятельно, и в нем, впорядке внутреннего раскрытия, настал момент, когда начала развиваться личность, личное начало, и это развитие было необходимо. В этом резко выразившемся личном начале западных христиан и кроется причина того негодования и отчасти той нелюбви к буддизму и браманизму, с которыми христиане относятся к древним религиям. Но это не есть конец эволюции; конец впереди, он настанет именно тогда, когда яркое индивидуальное начало, не исчезнув, поднимется над личным началом. И г. Мережковский ошибается, когда говорит, что теософией должен уничтожиться один из краеугольных камней христианства. Теософия — как раз ведет к личному самопознанию, к развитию самосознающего духовного центра. Это, может быть, отчасти и думали, когда говорили о монаде в той речи, которую я не совсем могла уловить, потому что она была немножко неясна для меня. Затем мне хотелось бы ответить на один вопрос, который меня чрезвычайно больно кольнул. Это было тогда, когда г. Мережковский говорил, что он не желает идти в наши объятия, и что наша проповедь ведет к тому, что мы готовы обнять Азефа. На это мы можем сказать: да, наши взгляды действительно разнятся, мы сосредотачиваемся не на мыслях ненависти, а на том, что мы сами виноваты в том, что азефы существуют. И вот это сознание единства и ответственности всех, через которое проводит теософия, вероятно, и вызывает в Вас то недоразумение, по которому Вы все время склонны были доказывать, что мы не более как созерцатели. Везде, где теософия распространилась, а она распространилась по всему миру, все требование сводилось к тому, чтобы она была той действенной силой, которая бы освещала и поднимала жизнь; иначе она будет таким же балластом, такой же прибавкой к схоластике, которой люди и без этого достаточно
55
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
сыты; к тому же схоластикой никто не мог бы зажечь сердца, а мы знаем, что теософия зажигает сердца и вместе с тем освещает весь смысл самого бытия и всех сторон жизни, которые требуют перестройки и переделки.
Затем Вы говорили о «личине» нашей, — какое лицо у теософии, о проблеме зла, и Вы говорили, что вечная погибель — есть нечто трагическое и даже красивое. Мне кажется, что ответом на это может служить то, что я раньше сказала о различных возрастах человечества, что теософия подошла к человеку тогда, когда человек достиг зрелого состояния, когда она могла раскрыть ему эту тайну, что никто не погибнет, что все люди спасутся. Если есть Бог, то для Бога все должны быть равноценны и для всех должна быть раскрыта возможность спасения. Но человеку незрелому не следует этого говорить. И действительно, в средние века, когда люди были мало развиты, для них считали важным и нужным веру, что за короткую жизнь Господь Бог в состоянии ввергнуть в вечные мучения. Это — идея совершенно невозможная, и я думаю, что именно она отвратила множество благородных сердец от Христ<ианской> Церкви. Нельзя помириться с такой справедливостью Бога, которая ниже человеческой. Ни одна мать не станет наказывать ребенка за его проступок на всю жизнь, а не то что Бог. Так что я полагаю, тем, которые пройдут через огромную внутреннюю работу теософии, через великий труд и напряжение ее духовного пути, скучно в небесах не будет, как боится г. Мережковский. На этом пути есть свои глубины и свои подъемы, свои терзания и свои невыразимые радости. Д.С. Мережковский.
Я бы хотел возразить, что я, разумеется, никогда не мог сказать, что на знамени Христа написано: «бойтесь». Конечно, я ничего подобного не предполагал сказать, а если сказал, то это не больше не меньше как lapsus linguae1. Я сказал это о христианстве. В преддверии христианства стоит Иоанн Предтеча, который говорил: «опомнитесь, покайтесь». И это есть начало христианства, ознаменование пришествия Христа. Я полагаю, что теософы думают, что его видят, но оно далеко. Там стоит: страха никакого, дерзайте, вы сыны Божии. Мы этого не
Погрешность языка, лингвистическая ошибка (лат.).
56
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
видим, но у теософов обратное: их Иоанн Предтеча говорит: «не бойтесь, будьте благополучны». Затем я никогда не утверждал, что в вечной погибели есть что-нибудь красивое. Это мне столь чуждо, отвратительно до последних пределов...
Голос из публики.
Почему отвратительно?
Д.С. Мережковский.
Нам очень трудно говорить. Вы говорите, что каждая мать пожалеет своего ребенка и не осудит его на вечную муку. В этом-то и начало всякой вашей религии, что она прежде всего сбивает с здравого смысла, она человека обезумливает, лишает человека здравого сознания. Это ясно, как 2х2=4, которое есть ходячая лавочная монета. Что значит, мать не осудит ребенка на вечную муку. Это я знаю, это все знают, это 2х2=4. Но ведь сказано в Евангелии: «идите от меня проклятые в муку вечную». Это не так просто брошенные слова. Мать тут совершенно не при чем. Тут такой чудовищный туман, что я не знаю, что с этим делать; тут вопрос метафизики и совершенно ничего не имеющий общего с физиологией, а то, что вы говорите, это физиология, физика, но не метафизика. Есть явления, которые мы вечной ненавистью ненавидим. Вы упомянули, что вам это не совсем понятно, и будто я сомневаюсь, что вы также относитесь отрицательно к таким чудовищным явлениям, как Иуда Предатель и Азеф. Я ни одной секунды не сомневаюсь, что вы добрые, в высшей степени благородные люди. Меня это не интересует; тут вопрос не в вашей доброте, не в том, что теософическое общество состоит из порядочных, добрых людей, а я сомневаюсь в поразительном факте: общество состоит из добрых людей, а делает весьма вредное дело. Это вопрос, вовсе не относящийся клогике.
Председатель.
Вячеслав Иванович Иванов хотел еще предложить вопросы, но Е.Ф. Писарева еще не кончила своей речи, и я прошу ее продолжать.
<Е.Ф.> Писарева.
Я хотела сказать Вячеславу Ивановичу, что мы друг друга не поняли. Мне кажется, тут есть масса недоразумений. Когда Вы говорите о Церкви, о том, чтобы жем-
57
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
чужину сохранить, и о том, что, как Вы выразились, есть известная грань, которая дорога для человека, то мы это прекрасно понимаем. Вы говорите о сознании себя частицей живого тела Церкви, но Вы говорите так, как могли бы говорить только христиане первых веков христианства, когда Церковь стояла высоко в духовном отношении; теперь же, когда вы говорите о Церкви Христианской, как не требующей изменения, не требующей эволюции, нам это совершенно непонятно. Ваша речь носила такой характер: так как я христианин и состою в этом теле и чувствую себя органической клеткой этого христианства, то я не могу быть теософом. Я, наоборот, говорю: я тоже состою в этом теле, но нахожу в нем много нездоровых клеточек, и думаю, что оно требует нового вдохновения, новой мысли и расширения. В.И. Иванов.
Это очень важный пункт, который Вы изволили затронуть. Конечно, я не разумел наличной эмпирической церкви; без сомнения, она находится в состоянии более чем неудовлетворительном. Мы говорим о самой Церкви точно так же, как я говорил о самом теософическом обществе. Я говорил о теософическом обществе в смысле мистического тела, — есть ли у него мистическое тело или нет. Мне кажется, вы скажете: «да, есть». Мне кажется, там есть такие предикаты, которые позволяют утверждать присутствие этого мистического тела. Не думаю, чтобы теософы стали спорить относительно присутствия в теософическом обществе вот этого мистического тела. Если теософическое общество, как внешнее мистическое тело, вмещает в себе Церковь Христианскую, живое Тело Христово, тогда подавай ему Бог помощь; но оно в моих глазах означает тогда все же некоторую низшую ступень, поскольку является только оболочкой, облекающей живого младенца. Кто ищет приобщиться Телу Младенца, тот уже не хочет быть в Его оболочке. Но я вообще нахожу, что теософическое общество грешит нецельностью: оно утверждает известные особенности, которые характеризуют его как церковь, и в то же время не желает определенно утвердить этих особенностей. Оно говорит: «оставайтесь каждый в своей вере», и затем дальше теософы говорят: «мы даем вам высшее в смысле Пути; впрочем, очень хоро-
58
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
шо, если вы останетесь религиозными людьми в форме вашей общины; но, конечно, наш путь выше». Таким образом, абсолютной ценности придан характер ценности относительной. Я уважаю личность в религиозном смысле, в особенности тех теософов, которые разрешают вопрос о религиозной жизни выбором определенной формы исповедания, ибо теософическое общество дает внутренние импульсы и познания, но собственно религиозной жизни не дает, таинств для всех там нет, нет там молитвы даже в специальном культовом и практическом, а не созерцательном, теоретическом смысле этого слова. Но они говорят: «вы молитесь, и каждый по-своему. Конечно, это не так важно, как то, что дает теософическое общество, но это ценно, как естественная и начальная форма внутреннего опыта».
Голос.
Значит, теософическое общество важнее, чем таинства. В.И. Иванов.
Мне кажется, что таинство в глазах теософического общества есть вид или1 мистерий. И я против этого в принципе ничего не имею, но я утверждаю, что таин-ства11 в теософическом обществе есть; мне кажется, напротив, что соборной организации религиозной жизни в прямом и собственном смысле этого слова, не жизни мистической, а чисто религиозной, той, которая не исчерпывается элементами познавательным и созерцательным, у теософов нет. Поэтому в моих глазах заслуживает уважения то, что теми теософами, которые определенно вотируют за буддизм или браманизм, это замечено. Ревность христианина едва ли когда-нибудь будет ревностью теософа; или же он будет христианин и возьмет из сокровищницы теософического общества некоторые нужные ему элементы только. Мне скажут, что д-р Штейнер христианин. Тогда он недостаточно и только в силу внешних связей член теософического общества. Безант, которая отличается цельным характером, решительно присоединилась к браманизму. Основательница общества Блавацкая, сочинения которой окрашены антихристианской тенденцией, открыто обратилась в
I Пропуск в стенограмме.
II Пропуск в стенограмме.
59
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
буддизм. Буддистом стал и Олькотт49. Почему теософическое общество не сделается просто индуистской церковью? К этому я провоцирую, и тогда мы разделимся. Тяготение членов теософического общества явно устремляется в эту сторону к религиям Индии. В Германии, где президент секции общества — Рудольф Штейнер, господствует, в некоторой оппозиции с другими национальными секциями, независимое штейнерианское направление, которое ищет определить себя, как христианское. Е.<Ф.> Писарева.
Простите, пожалуйста, я состою лично ученицей Штейнера и г-жи А. Безант и нахожусь в обществе теософическом и могу засвидетельствовать, что никакого антагонизма по существу там нет. <В.И.> Иванов.
Известный антагонизм существует в самой Германии между ложами чисто безантистскими и ложами Штейнера. <Е.Ф.> Писарева.
Это не по существу. <В.И.> Иванов.
Я говорил о фактах, а не по существу. <Е.Ф.> Писарева.
Вы говорите о религии; тогда надо брать религиозные ценности. <В.И.> Иванов.
Мы видим, что доктрина теософического общества теория индусская; точно так же мы видим из его первых членов-основателей двух буддистов и одну браманистку. Председатель.
Мне хочется спросить собрание: хотя у нас сейчас стрелка подходит к 12 час. ночи, но записаны следующие ораторы: (Читает.), затем должно последовать возражение докладчицы и мое резюме, — как нам быть.
Голоса.
Окончить в следующем заседании. Д.В. Философов.
Мы, к сожалению, не можем отложить до следующего заседания, потому что на все ближайшие заседания у нас рефераты расписаны.
Голоса.
Ограничить речи 3-мя минутами.
60
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Председатель.
Слово принадлежит г-ну Протейкинскому.
Г-н Протейкинский. (К Д.С. Мережковскому.)
В прошлом году Вы как бы совершенно новорожденный, так сказать, оказались в отношении теософии. Вы очень много говорили, все Вас слушали, Вы говорили чрезвычайно интересно, сопоставления Вы делали в высшей степени интересные относительно христианства и теософии; все это верно; но в то же самое время Вы начали тем, что почему-то Вас все это не интересует, и что сегодняшнее заседание является результатом нескольких нечаянно вырвавшихся у Вас резких выражений в прошлом году по отношению к теософии, что Вы будете каяться и т.п. Но никакого этого покаяния здесь не было. Разумеется, это тоже были только сказанные слова. Но, с другой стороны, скажу Вам, что мне показалось во всем этом. Если Вас все это пока почему-то не интересует, то мне чуется, что это Вас заинтересует больше: Вы такой человек, Вы такой души человек. Вот Вы прекрасно пояснили здесь впервые в этой конъюнктуре о новом проявлении прагматизма и именно указали, что в прагматизме и прагматической религии или миросозерцании по преимуществу стоит на первом месте не элемент сознания, а элемент действия. Но сплошь и рядом бывает, что слова, сказанные людьми, может быть, неосторожно, бессознательно, иррационально, есть своего рода действие. И вот то, что Вы когда-то сказали иррациональное, бессознательное, как Вы говорите, слово, оно было действительно сильным словом: оно привело к сегодняшнему заседанию; и то, что Вы сегодня говорили иррационально, тоже есть дело, и приведет Вас, может быть, еще к некоторому покаянию по отношению к теософии. На этом и кончаю.
Рукоплескания. Председатель просит не аплодировать.
К.Ф. Жаков.
Я скажу несколько слов. Мне кажется, что опыт и логика суть методы познания и нужно, чтобы опыт и логика были не против мистицизма. Сейчас здесь идет спор двух школ. Одна говорит: все дело в мистицизме, а разум ни к чему. Другая это отвергает. Религии подлежат эволюции, и вообще только та религия универсаль-
61
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
на и глубока в высшем отношении, где опыт, логика и мистицизм совпадают. Разве жизнь природы не показывает, что все развивается? Почему христианство было не в начале и не в конце человечества? Это было явление юному человечеству, и оно имеет логические основания. Мистики совершенно игнорируют разум человеческий. У теософии есть мистицизм, но есть и разум. Слушая беспристрастно эти школы, я прихожу к выводу, что в христианстве есть противоречия, и если принимать за истину теософию, то нет сомнения, что теософия есть будущая религия, а все прочие, неясно выраженные стадии одной универсальной и вселенской религии, к формулам которой стремится теософия. Близок, близок час объединения народов и изъяснения правды Божией. Н.А. Рейтлингер.
Господа, я буду краток: я хотел бы сказать только несколько слов, которые, надеюсь, могли бы быть словами примирения. Тут выяснилось два направления, враждебные между собою и довольно резко противоположные: одно — за теософию, другое — против; по всей вероятности, и в аудитории, присутствующие здесь разделяются на те же две группы. Может быть, то, что я намерен высказать, способно будет примирить, согласовать эти два направления. Я позволяю себе надеяться на это потому, что сам я — не теософ, т.е. не состою членом теософического общества, я — считаю себя христианином, и тем не менее я во враждебное отношение к теософии стать не могу, и вот почему. Христианство можно понимать очень различно, и едва ли все мы понимаем Евангелие так, как его надлежит понимать. Несомненно, что Христос говорил неодинаково, не то самое, своим ученикам, оставаясь наедине с ними, и толпе, состоящей из менее развитых слушателей и менее подготовленных (на это имеются прямые указания в Евангелии); ибо есть вещи, которые могут быть объяснены человечеству лишь в известном, более зрелом периоде его развития, а в те периоды, когда оно не доросло духовно, — они от него скрываются. Это все равно, как преподавание истории, которое идет концентрическими кругами: в младших классах гимназии проходят ее по какому-нибудь сокращенному курсу Иловайского, потом по более подробному учебнику, наконец — в университете еще пол-
62
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
нее и глубже; и то, и другое, и третье — та же история, однако какая разница в ее понимании. Вот то же и с Евангелием. Помните, что там сказано: «то, что было тайно, то сделается явным». И вот мне кажется, что та эпоха, которую мы теперь переживаем, эпоха замечательная, особенная, знаменательная тем, что многие вещи, которые долго держались в тайне, делаются явными, разъясняются. Было время, когда человечеству было довольно иметь христианство, так сказать «по Иловайскому»; теперь ему дается более углубленное понимание христианства. В этом состоит одна из заслуг и сила, между прочим, и теософического движения. Конечно, теософия не есть единственный путь, единственный проводник, через который происходит раскрытие тайн, долго скрывавшихся от более широких кругов; есть разные течения и организации, выполняющие эту задачу в тех пределах, в каких это признано необходимым и своевременным: имеются центры восточного оккультизма, западного, и другие, помимо теософического, общества; но все они приводят к одной цели, а именно к более глубокому пониманию истин религиозных вообще и евангельских в частности. Вот в этом смысле я и хотел возразить Д.С. Мережковскому в прошлом году, когда он на одном из заседаний Религиозно-философского общества обмолвился несколькими резкими словами по адресу теософии. Смысл его речи сводился к тому, что он как бы говорил так: «вот дверь, над которой стоит надпись: Теософия. Туда — не ходите — Вы там ничего не найдете». Тогда мне не была дана возможность ему ответить. Но я могу это сделать теперь, ибо вижу, что Дм<итрий> Сергеевич за этот год, по-видимому, «ничего не забыл и ничему не научился» (по отношению к теософии) и повторяет то же, что высказал тогда. И если я позволяю себе сказать здесь слово в пользу теософии, — несмотря на то, что тут налицо представители теософического общества, — то делаю это именно потому, что они будут говорить, защищая, так сказать, «... »', между тем как я могу выступить как человек беспартийный, и вот, в качестве такого беспартийного лица, беспристрастной третьей стороны, я говорю: не отворачивайтесь от
Пропуск в стенограмме.
63
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
той двери, на которой написано «Теософия»; возможно, что, войдя в нее, вы не все там найдете, не всю истину, но, быть может, то, что вы там встретите, натолкнет вас на тот путь, посредством которого вы придете к более истинному и расширенному пониманию Евангелия, Христианства, Религии вообще. Многие шли этим путем и обрели неоценимые сокровища... М.В. Ладыженский.
Тут важен вопрос: может ли истинный христианин быть истинным теософом, возможно ли такое совмещение. Мне кажется, что возможно. Я буду говорить о христианстве с точки зрения практического применения. Что такое христианство? В нашем детстве это молитва нашей матери, молитва наша, это счастье быть в этой религии, жить в нашей религии, которая выражена на нашем славянском языке. Мы начинаем жить сердцем, и тут-то и вселяется в него это чувство, это желание, стремление к тому единому, о котором говорят теософы, инстинктивно вселяется. Итак, мы растем, мы умнеем, мы входим в понятие догматов, и видим массу противоречий. С одной стороны, мы сроднились духовно со всем этим, это наша инстинктивная мистика, которая в нас есть с детства, с другой стороны, все это является другим, когда развивается наш ум, когда мы видим эти противоречия, напр<имер>, о вечных муках за не бесконечные действия, а действия, происшедшие во времени, когда мы видим такое невозможное противоречие, мы начинаем страдать, а расстаться нам с нашим дорогим, с тем, что мы получили, — я с этим расстаться не могу. Это сделало мою жизнь цельной и, может быть, это единственно то, что делает мне дорогой жизнь. Хотя здесь говорили о теле Церкви, но я бы спросил: где оно, это тело Церкви. В теории многоуважаемая г-жа Писарева хотела поправить и говорила о теле христианства. Я могу представить первое христианство, но теперь мы видим остов его, мы видим догматы, но многие отвратились от него. Если я привык молиться по Иоанну Златоусту, по Марку Евангелисту, это есть вторая моя натура. И вот я иду в этот храм, в храм теософии, и меня этот храм удовлетворяет. Я начал прежде всего с религии чувства: она сделала все мое существо, и я иду за примирением, и что же я вижу. Что так, как я, молится
64
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
индус. Я ездил кругом света и видел, они лучше нас молятся. Я видел брамина на молитве; у нас слабее религия; и они переживают те же стремления. Желательно, чтобы мы так понимали Единого, как они понимают. Почему же мне думать непременно, если я сын Государства, где 150 миллионов, почему же мне иначе думать? Я думаю, всякая молитва, раз она стремится к Богу, всякая молитва высока и велика. И кто мне об этом сказал? Теософия. И в этом можно найти примирение целой жизни, а не во внешних догмах. Вот тут говорили, что школы разные ссорятся; и в первые времена христианства это было, и апостол Павел ссорился, но то было время не такое, как теперь, а после Нерона. Если мы все не будем ссориться и будем стоять на этой общей почве, то здесь мы найдем примирение. Д.С. Мережковский.
Я, разумеется, не каялся в своих мыслях; я каялся, что сказал резко, но в мыслях своих не мог покаяться, потому что мысли мои остались до сих пор незыблемыми. Я сказал, что я не чувствую интереса, это были слова вежливые, я могу сказать откровеннее: я чувствую именно отвращение и ненависть. Я не думаю, что тут дверь, на которой написано: «не ходите туда, там ничего не найдете». Я говорю: не ходите, потому что там яма, там ужас. И вот одно из поразительных явлений этого ужаса то, что действительно странно в теософии. Когда я читаю теософические книги, меня всегда это поражает: люди говорят вдохновенно, я совершенно ясно вижу, что они горят, но когда я начинаю думать об этом, то я вижу, что это общие места. Эта теософия, как она преподается, — это вдохновение общих мест. Все необыкновенно верно, но все необыкновенно старо. И действительно думается: люди так оголодали, до такой степени они лишены всего питательного, что бросаются на кору. Да, и корой можно заглушить голод, но ведь есть хлеб, и для того, кто понюхал, чем пахнет хлеб, ясно, что это есть кора. Я, действительно, мало читал теософических книг, но по тому, что говорил Вячеслав Иванович, я убеждаюсь, что мой инстинкт был совершенно верен, что я понял инстинктом, где тут здоровое и нездоровое. Я вспоминаю мое личное впечатление от одного из учителей теософии г. Штейнера, я видел его в Париже и
65
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
говорил довольно долго по вопросам весьма кардинальным для меня и для него. Он говорил, что в России ему предстоит деятельность; он много надежд возлагал на Россию; и это свидание было не случайное. То впечатление, которое вынес Вячеслав Иванович, из более глубокого изучения его сочинений, совершенно совпадает с этим моим впечатлением от Штейнера. Я почувствовал в Штейнере, что это не только теософ, но и оккультист, т.е. что есть в теософии еще, может быть, очень важная сторона, о которой мы не говорили, именно сторона оккультная, и, может быть, следовало бы продолжить заседание для того, чтобы поговорить об оккультной стороне теософии. Тогда бы выяснилось поразительное явление, что люди утверждают: я добрый христианин, как же вы не видите, что я добрый христианин.
Да, может быть, они и добрые христиане, но тайны куда их ведут, они не знают; а это впечатление, что тут тайна, у меня очень определенное. Я думаю, что Вячеслав Иванович был совершенно прав, когда говорил об уклоне от Христианской Церкви. Эти церкви, что у Блавацкой и других, определенной тенденции и очень значительной; и это еще более значительно потому, что мы видим равнодушие истинных христиан, которые попадают в эту страшную ловушку. <В.П.> Протейкинский.
То, что Вы сказали1, то относится и к христианству. Нам надо думать о том впечатлении, которое имеют о христианстве китайцы, японцы и т.д. Когда наши миссионеры являются туда проповедывать христианство, то китайцы и японцы говорят, что если христианство таково, как вы его нам представляете, так нам этого христианства не надо. А для нас это самое спасительное. Так что люди и истину понимают различно. Вы все-таки, Вячеслав Иванович, знаете, как я добро отношусь и как я рад придраться к делу.
Вы изволили сказать в конце первого Вашего слова: «но я христианин и потому противник вам». После того, что Вы высказали, после того, что Е.Ф. Писарева засвидетельствовала, что теософия не есть Церковь, можете ли Вы сказать, что Вы противник?
Пропуск в стенограмме.
66
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
В.И. Иванов.
Я повторяю, что я противник теософического общества, поскольку оно является синкретическою церковью. <В.П.> Протейкинский.
Следовательно, Вы признаете, что это не только общество, а Вы думаете, что это есть церковно-религиоз-ное общество, и тогда Вы противник. В.И. Иванов.
Да.
Председатель.
Ораторов больше нет. Теперь слово принадлежит докладчице А.А. Каменской.
А.А. Каменская.
Здесь было затронуто так много вопросов, что я затрудняюсь ответить на все вопросы и думаю ответить на самые главные, так как на некоторые уже были даны ответы. Я ставлю Вячеслава Ивановича последним всвоем ответе, а сейчас я начну с ответа г. Мережковскому. Я хочу ему только ответить на его обвинение в том, что почему люди, которые, по-видимому, так добры, делают какое-то вредное дело. Я ему напомню, что в данном случае совершенно не доказано, что дело вредное. Если судить о делах, то, может быть, будет наиболее верно, если мы признаем слова Спасителя: «по плодам судите о дереве»50. Теософическое общество очень молодо, и говорить, какие плоды оно дало бы в России, слишком рано. Но мировое теософическое движение, несомненно, эти плоды уже дало, и в тех странах, где работало теософическое движение, мы видим возрождение идеализма, возбуждение религиозного чувства и активное служение жизни; потому что каждый теософ, который проникается идеями теософии, считает необходимым в силу своего единства с миром, вносить в мир частицу своего творчества. Можно допустить, что человек пассивный подходит к теософии, но нельзя сделаться теософом и продолжать быть пассивным. Теософия вызывает настроение в высшей степени активное и всегда прогрессивное. Ибо, с точки зрения теософии, все, что идет с эволюцией, — добро, все, что идет против нее, зло. Так что теософия должна непременно помогать тому, что прогрессирует, помогать эволюции. Относительно недоразумения, что мы в своем
67
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
избытке добрых чувств готовы без всякого различия относиться ко всем явлениям мира и ко всем людям, — в таком случае, где будет зло и борьба со злом, а то здесь кроется недоразумение, с которым приходится постоянно встречаться теософии, когда подходят неофиты. Проповедь любви и мира, учение, которое заставляет видеть брата в каждом человеке, в разбойнике, в убийце, в преступнике, в человеке падшем, совершенно не требует, чтобы мы относились пассивно к этим явлениям. В этом отношении самой правильной формулой была бы такая: борьба, но не вражда. И вот научиться бороться, укладывать всю свою энергию в эту борьбу, но не тратя ее на враждебные и злые эмоции, считая их за дело, тогда как они нисколько не двигают вперед дела, вот этому действительно учит теософия. Так что отношение к человеку, через которого происходит отрицательное явление, должно быть милосердное, но самое явление отрицательное должно вызывать определенное активное отношение. Я на это хотела ответить. Затем я бы хотела сказать относительно двух-трех замечаний Вячеслава Ивановича, которые в сущности были не по существу, но нужно рассеять недоразумения, которые с ними связаны. Вячеслав Иванович говорил, что, по-видимому, у нас — теософов даже нет молитвы и что в теософическом обществе нет настоящего религиозного настроения, а есть искусственно притянутая религиозная жизнь. Я на это отвечу. На изучении молитвы останавливались мистики всех времен; обращаясь к христианству, мы видим, что подвижники, которые посвятили себя изучению молитвы, разбивают молитву на многие категории. Есть молитва внешняя, есть внутренняя молитва, умная, тут много строений, и мистики признавали, что самая высокая молитва не та, когда человек определенно просит у Бога чего-нибудь; такая молитва не есть акт веры, ибо такой человек просит, как ребенок, который не доверяет отцу, что отец лучше знает, что надо, а та молитва внутренняя, которая старается подняться к Богу; эта высшая молитва, несомненно, существенней первой; о ней есть определенное учение в теософии, как мы находим его в мистике всех времен. Что же касается внешней молитвы, то она не отрицается теософами, но считается ступенью элементарной молитвы.
68
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Теперь относительно того замечания, что будто бы наши главные лидеры оставили христианство. Здесь недоразумение, которое вытекает из незнания Востока. Совершенно верно, что Е.П. Блаватская вступила в буддизм и Генри Олькотт также; но это не значит, что они отреклись от христианства. Мы, европейцы, настолько фанатики, что требуем отречения от своей религии от вступающих в нашу религию, но буддизм не требует отречения от другой религии. Мне пришлось за границей встретиться с несколькими буддистами, увлеченными христианством и желавшими вступить в христианство; но когда христианский священник потребовал отречения от их религии, то они возмутились, отказались вступить в христианство. Они говорят: «почему же мы вас принимаем без такого отречения, а вы нас не можете принять?». И Е.П. Блаватская, и Генри Олькотт только потому и могли принять буддизм, что там не требуется отречения от своей религии. Они остались христианами, приобщившись к буддийской общине. Относительно миссис Анни Безант, тот, кто знает браманизм, знает, что это положение невозможное, потому что браманизм не имеет права этого делать, и если бы европеец желал вступить в браманизм, то его бы не могли принять, ибо это было бы против закона страны.
То, о чем говорит Вячеслав Иванович, касается других сторон затронутого вопроса, т.е. тех внутренних линий, по которым душа идет, но с точки зрения теософии — это дело личное каждого человека и никого не касается. Теософия признает в этом отношении безграничную свободу; хочу — иду по линии браминской, по линии буддийской, по линии Суфи или христианской. Это дело моей совести, того Бога, который сокрыт в моей душе, до которого никому нет дела, но до которого у нас в Европе так страшно много дела, потому что мы страшно нетерпимы. И так в этом вопросе неправильное понимание, а с официальной стороны этого факта (т.е. перехода в браманизм) не может быть. Но я прибавлю: насколько совместимо глубокое понимание христианства при увлечении индуизмом доказывает знаменательный факт, что, может быть, самая глубокая книга, которая в настоящее время написана по христианству, это книга миссис Анни Безант «Эзотерическое
69
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
христианство»51. Я могу только желать, чтобы интересующиеся все прочли эту удивительную книгу. Чтение вас убедило бы, к каким глубинам приводит теософия, которая умеет понимать сокровенный смысл религий, и как она расширяет понятия. А затем самое главное возражение, мне кажется, в самом ответе В. Иванова. В вопросе, который он обратил ко мне, в сущности есть коренное недоразумение, я бы сказала — противоречие, потому что Вячеслав Иванович как будто недоумевает, каким образом можно соединять такие разные по своей физиономии, по своим верованиям религии, как буддизм и христианство; он опасается, что такое соединение ведет к умалению христианства, которое теряет свою абсолютную ценность. Вместе с тем, подчеркивая очень-очень в своей речи, что есть различия, он их совершенно не доказал. Он говорит, что, несмотря на выставленное тождество, различны формы понимания в разных верах. Для меня это совершенно не доказано, но я допускаю, одну секунду, что это так. Вячеслав Иванович говорит, что эти религии настолько чужды друг другу, что совершенно не соединимы. «Разумеется, что касается вопроса о Пути (т.е. мировой мистике), то здесь будет полное тождество». А я Вас спрашиваю: что такое Путь. Что такое мировая мистика, как не Путь к высшей эволюции, путь, на котором создается высший тип человека, к которому звал Вл. Соловьев, к которому звали все великие учителя, к которому звал Иисус Христос. Это путь Богочеловечества, путь, на который мы должны перейти из переживаний личных к переживаниям сверхличным. Своими словами В. Иванов указал то, что является главным, центральным местом в теософии, на тот путь, то поле мировой мистики, на котором могут объединиться все религии, т.е. что здесь и кроется корень того вселенского синтеза, о котором была речь в моем докладе. И мне кажется, если мы признали, что действительно в русском народе, в славянах есть особая склонность к мистике, то мы допустим, что действительно через нас пойдет и новое слово, новое откровение, в силу того, что мы, как мистики, чувствуем потребность в единстве и возможность синтеза. Вот об этой-то возможности, о необходимости безотлагательного синтеза говорили не только лучшие люди в прошлом, но и совре-
70
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
менные корифеи литературы говорят, что жажда этого безотлагательного синтеза и чувствуется всеми. Мне кажется, что она именно вытекает по существу из состояния мистика, который ощущает это единство. У нас уже синтез осуществлен в одной очень тонкой и своеобразной форме, — я беру идею национальную. Мне кажется, что нигде идея национальная не была возведена на такую высоту, как у нас, где она людьми мыслящими, передовыми была так поставлена, — я имею в виду Достоевского, Соловьева и передовую интеллигенцию, идея о всечеловеке. Эта идея систе<ма>тическая вытекает из жажды Вселенской Правды, ниже которой, говорят Достоевский и Соловьев, помириться русскому человеку нельзя; должна быть вселенская правда. Эта вселенская правда может осуществиться только через высший путь, о котором говорят религиозные учителя всех народов и всех времен. Нам думается, что в России, где так сильна эта жажда, этот синтез в области религиозной будет осуществлен. На это есть много указаний. Мы переживаем совсем особое время разлада и исканий именно потому, что мы чувствуем, что мы отошли от старого и не подошли к новому, именно потому мы так близко подошли к теософии. Я бы очень многое могла сказать по этому поводу, но я боюсь в данном случае быть слишком многословной. Было сказано в одной речи, что теософы как будто «горят». Да, мы, теософы, действительно горим; мы горим потому, что мы убеждены в том, что теософия имеет великую миссию у нас в России: где такая необыкновенная почва; перед теософией стоит великая задача, и эту задачу она исполнит. Председатель.
Господа, прежде чем перейти к резюме речей в сегодняшнем заседании, позвольте мне сказать несколько слов от себя и объяснить, почему я примкнул <к> теософическому движению. С 1902 года я посещаю собрания Религиозно-философского общества. Чтобы не останавливаться на всех деталях, напомню несколько первых собраний. Вспомните доклад В.В. Розанова о благодати священства52. Два-три вечера велась жаркая беседа, жаркий спор, и в конце концов вопрос остался не выясненным. Вспомните доклад о свободе совести53: после двух вечеров, посвященных обсуждению этого
71
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
вопроса, представители духовенства признали, что где Христос, там и свобода, но что Церковь сама не свободна. На этом вопрос остановился. Вспомните доклад о браке54 и спор о том, что выше — брак или безбрачие? Спор кончился тем, что председательствовавший55 — лицо духовного сана — сказал, что аргументы интеллигенции настолько убедительно доказывают, что брак выше безбрачия, что он ничего не имеет возразить, но так как в Священном Писании содержится прямое указание, что безбрачие выше, то он на этой точке зрения и остается; и тогда не безызвестный вам В.М. Скворцов56 сделал небезынтересное и грустное для меня признание. Он сказал, что все эти вопросы, которые волнуют нас сейчас и которые мы не можем разрешить, в первые века христианства даже не возникали; никакого недоразумения, никакого спора они не возбуждали; теперь же эти споры происходят потому, что ключ к пониманию этих истин нами утерян. Это горькое признание. Когда я шел на собеседование, я ожидал все, что угодно, я ожидал, что нам скажут: вы еще не можете понять: вы еще не доросли. Но когда вам говорят: «ключ утерян», тогда остается пойти и поискать, где же находится этот ключ. И я вступил на путь поисков; я искал ответа у старчества, думая, что там найду ключ. Поиски остались безрезультатны. Был я на Валааме; тишины я там не нашел; и вот на пути моем встретилась теософия, которая внесла мир во все те «проклятые» вопросы, которые на протяжении нескольких лет оставались неразрешенными. Мне открылась возможность более ясного, более глубокого понимания христианства. Дмитрий Сергеевич говорит, что он индифферентен к теософии, что его не интересует теософия, что он удовлетворяется догмами церковными. Да будет ему благо. Ни одной секунды я не посягаю на его внутренний мир, потому что будить человека, пока его внутренние запросы не пробудились, не следует; но в тот момент, когда человек не удовлетворяется более этими догмами только потому, что он их не понимает, и из-за этого непонимания хочет порвать со своей верой, тогда я скажу: «обожди: за этими мертвыми словами есть внутренний смысл; символ может ожить». И поэтому я и многие другие углубляли свое понимание христиан-
72
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
ства в Духе и Истине и остались христианами. Именно сегодня был поставлен вопрос о том, совместима ли теософия с христианством; и было выяснено, что совместима вполне. Но этот тезис был достаточно выяснен, и инициатор этого вопроса В.И. Иванов признал, что против теософии, как исследования вопросов религиозного свойства, он лично ничего не имеет, и против этого, вообще, он не возражает. Затем второй тезис, который был здесь сегодня затронут, это вопрос относительно молитвы, причем Д.С. Мережковский сегодня сказал, что теософия не знает молитвы. Но этим он коренным образом разошелся с тем, что он сказал год тому назад. Год тому назад им было в этом помещении сказано: «теософия учит только молиться и ничего не делать». Из этого и вытекал сегодняшний его тезис, что теософия есть созерцание, а не делание. Относительно этой фразы, что теософия учит только молиться и ничего не делать, можно сказать, что здесь глубокое заблуждение, но если бы, действительно, в теософии не было бы ничего, кроме молитвы, то тогда следует сказать, что молитва, сама по себе, есть величайшее делание. Если бы мы умели молиться, то не было бы тех многочисленных эпидемий, от которых страдает современное человечество. Какое важное дело молитва, видно из того, что первые христиане, при встрече, не спрашивали друг друга, «как здоровье», а спрашивали: «как делается молитва». И вот к этому молитвенному делу и призывает теософия. Но, кроме того, теософия еще говорит: зачем ты говоришь о богоискании и ищешь Бога в народе, в красоте и т.д., в чем-то внешнем, когда Бога можно найти только в собственной душе. В этом отношении Вячеслав Иванович очень близко подошел к теософии. Бога можно найти только в собственной душе и правильно построить свою жизнь можно только тогда, когда познаешь Бога в сердце своем. Вот к этому и призывает теософия. В 1903 году была издана прекрасная брошюра Новоселова «Забытый путь опытного богопо-знания57. Г-н Жаков сегодня говорил, что теософы должны доказать бытие Бога, доказать бытие души. Доказать этого нельзя. Всякая религия, как и всякая наука, зиждется на опыте; нужно вспомнить этот забытый путь опытного богопознания, и тогда вам не придется гово-
73
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
рить о богоискании, потому что вы всем своим существом опытно узнаете, что Христос был, есть и будет; и когда это будет достигнуто, то вера будет построена на твердом камне, и вы неизбежно вступите на путь активного служения в жизни, вступите на путь того делания, об отсутствии которого в теософии упрекали сегодня теософов. Другого пути быть не может: сначала внутреннее: созерцание, богомудрие, — затем внешнее — работа на благо других. Третий вопрос, затронутый здесь, — о проблеме зла. Несомненно, на этой платформе никогда теософы с Д.С. Мережковским не столкуются; никогда для них не будет радости и не будет величайшего священного действия в том, чтобы убить Азефа. Теософия учит, что зло победится не звоном мечей, а дивною силой Господних речей и тайной святой, неизменной. Вот к этой тайне В.И. Иванов подошел 30 декабря прошлого года. В прениях по его докладу «О русской идее» он говорил, что все хранится в мистериях, но что мистерии были надстройкой, — теософией, и не проникли в душу народа. Насколько это верно, что мистерии не проникли в душу народа? Я с этим согласиться не могу. Нужно вспомнить христианские легенды, сказки, мифологию, чтобы всюду найти мистический элемент. Несомненно, что давать народу теософию, пока не пробудился его пытливый дух, не следует; в жизнь широкой волной ее влить нельзя; но теософия, как богомудрие, как опытное богопознание, является не надстройкой; она является тем существом, которое объединяет и дает ключ к пониманию всех религий и все приводит к единству. Вот к этому самому единству, к признанию его и призывает теософия; при наличности этого единства нельзя взять Азефа за шиворот и уничтожить его, когда чувствуешь, что его грех — наш грех; тут чувствуется вина всех, как правильно сказал Достоевский «воистину, всякий пред всеми за всех и за все виноват». Вот эта нить единства очень ярко и выпукло проходит и звучит через все учение теософии, понимаемой не в смысле Церкви, а в смысле восстановления забытого христианского гнозиса, того гнозиса, который претворяет мертвую букву в дух и жизнь. В.И. Иванов.
Церковь теософическое общество или нет?
74
ПРЕНИЯ
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
Председатель.
Нет. На этот вопрос дан был прямой и категорический ответ несколькими ораторами. Затем позвольте только два слова сказать в заключение о «благополучии» теософии. Дмитрий Сергеевич ужасно волнуется, и как тогда по поводу реферата В.И. Иванова он ужасался, что у Вячеслава Ивановича все благополучно, так и теперь он видит какое-то бесстрашие со стороны теософов, какое-то, так сказать, благополучие, уверенность, что все спасутся. Несомненно, страх Божий должен быть, но страх Божий не в смысле боязни, а в смысле благоговения. Но все ли спасутся? Да, несомненно, спасутся все, потому что в Евангелии сказано: «нет воли Отца, чтобы погиб единый из малых сих»58. Воля Отца есть вместе с тем и Ее осуществление, и если нет воли Отца, то, несомненно, никто не погибнет; тут весь вопрос только в том, как быстро кто исполнит свой урок. Ввиду позднего времени я боюсь вас утруждать детальным развитием этого вопроса, скажу только, что муки вечной для индивидуальной души нет, и это так же верно, как и то, что нет такого догмата, который был бы вам известен с детских лет и который не был бы верен как для детского возраста, так и для зрелого понимания. Нужно уметь найти ключ, нужно уметь читать, что скрывается за каждым из этих величайших и глубочайших символов христианского учения. Здесь говорилось еще о других церквах и о том, которую из этих церквей теософы ставят выше, и не ставят ли они теософическое общество выше Христианской Церкви. Из прений выяснилось, что самый первый и главный тезис теософического общества — никого и никакую религию не ставить выше, уважать верования каждого человека; но параллельно с этим, именно в силу этого понимания, в силу этого желания видеть ту точку, до которой дошел человек в своем духовном развитии, и возможно слияние всех человеческих церквей, как мы о том молимся в наших храмах «о мире всего мира, о благосостоянии Св. Божиих Церквей и соединении всех». Мне кажется, этот лозунг, этот девиз одинаково проходит и через нашу ежедневную молитву, и через теософию.
В заключение я не могу не поблагодарить еще раз устроителей этого собрания — Совет Религиозно-фило-
75
24.XI.1909
А.А. Каменская. Теософия и богостроительство
софского общества — за то, что он дал нам возможность сегодня выслушать доклад и обменяться мнениями и возражениями. Я думаю, что чем чаще мы будем собираться, чем больше будем говорить, чем ближе будем узнавать друг друга, тем больше будем любить друг друга, а в этом есть альфа и омега всего.
Рукоплескания.
Объявляю заседание закрытым.
1909 г.
Декабря 7 дня.
ЗАСЕДАНИЕ 2 ФЕВРАЛЯ 1910 г.
С.Л. Франк
Религиозная философия Джеймса
Бывают научные произведения, значение которых определяется не только и даже не столько их объективной теоретической ценностью, сколько тем, что они высказывают какое-то освобождающее и спасительное слово, провозглашают идею, отвечающую какой-либо назревшей духовной потребности эпохи. К таким книгам преимущественно относится немецкое выражение, что они «делают эпоху». Такова в свое время была книга Дарвина о происхождении видов59, которая, совершенно независимо от своего научного значения, соответствовала настроению умов, искавшему механического объяснения органических явлений; таковы в 60-х годах были материалистические манифесты Бюхнера и Молешотта60; такова, во второй половине 60-х годов, была книга Альберта Ланге «История материализма»61, которая среди философского похмелья, последовавшего за торжеством и упадком гегельянской метафизики, впервые выразила культурную потребность в возрождении строгой научной философии.
К таким же «делающим эпоху» произведениям должна быть причислена и недавно переведенная на русский язык книга Джеймса «Многообразие религиозного опыта»62, которая, идя вразрез со всеми сложившимися научными мнениями, сразу имела шумный успех, выдержала несколько изданий и, вероятно, скоро станет одной из популярнейших научных книг нашего времени. Как бы ни оценивать с чисто научной точки зрения эту, во вся-
77
02.II.1910
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
ком случае, замечательную книгу, необходимо признать, что она столь же характерна для умонастроения начала XX века, как только что упомянутые произведения — для недавнего прошлого. В ней ярко сказалась всюду намечающаяся глубокая потребность в возрождении религиозной жизни, в ней выдающийся ученый с мировым именем открыто и категорически дал научную санкцию этой потребности; и в этом — тайна ее значения.
За последние десятилетия в умонастроении европейского общества произошел довольно глубокий сдвиг и поворот, выражающийся в переоценке сравнительного значения положительной науки и религии. Эта духовная эволюция есть объективный факт современной истории культуры, который нельзя отрицать, как бы к нему ни относиться. Стоит теперь перечитать не то что Конта или Фейербаха, но хотя бы рассуждения Ницше об окончательном крушении религии, метафизики и даже искусства, о наступлении новой эры строго-научного отношения к жизни, чтобы непосредственно почувствовать, как далеки мы уже от этого, столь еще недавнего увлечения наукой. То, что тогда казалось духовно-радикальным и свободомыс-ленным, представляется теперь наивностью, ограниченностью или сухим педантизмом. Свободомыслие в своем истинном значении есть понятие формальное; оно означает непредвзятость, бесстрашие и честность мысли, способность видеть и высказывать истину, противоречащую предрассудкам и вкусам общественного мнения. Свободомыслие есть выражение того драгоценного и редкого фактора духовного прогресса, который Ницше прославлял под названием интеллектуальной совести. И вот, наступила пора, когда интеллектуальная совесть не может успокоиться на банальном уже ныне пренебрежении к религии, когда свободомыслием должно считаться не отрицание, а о т р и-ц а н и е е е о г у л ь н о г о отрицания. Это непосредственно ощутил Джеймс; в нем впервые громко заговорил голос интеллектуальной совести н а ш е г о в р е м е н и, и в этом отношении его книгу можно назвать подлинно «передовой» и свободомысленной.
Сама по себе такая духовная смелость и чуткость к запросам времени, конечно, гарантирует только субъективную правдивость, но, отнюдь, не объективную правильность своих результатов. Не нужно, однако, быть
78
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
«прагматистом», чтобы признать, что всякая крупная истина, всякий коренной переворот в человеческих мнениях вытекает из некоторой новой духовной потребности, и что, наоборот, почти всякое действительно сильное и глубокое изменение в умонастроении индивидуального или коллективного духа не проходит бесследно для познания, а помогает подойти к вещам с иной стороны, осветить новый уголок истины. Далее, духовная свобода, во всяком случае, содействует познанию тем, что она разрушает традиционные мнения, преграждающие человеческой мысли доступ к самой действительности; и именно такова духовная свобода, отличающая Джеймса. Джеймс принадлежит к тем довольно редким мыслителям, у которых ученая эрудиция не мешает самобытному творчеству и которые всегда думают о самих вещах, а не о чужих мнениях и книгах. Это умственное качество создало Джеймсу славу одного из первых современных психологов. В своих «Основах пси-хологии»63 он сумел подойти к самой душевной жизни сквозь накопившуюся вокруг нее груду ходячих психологических понятий; преодолев самые священные, вековые традиции английской «эмпирической» психологии, складывавшей сознание, как из кубиков, из изолированных ощущений, он увидел в последних не «первичные данные опыта», а продукты позднейшей логической абстракции, и впервые, действительно, эмпирически охарактеризовал сознание, как неразложимый единый поток многообразного содержания. Помимо научной непредвзятости, здесь сказалось еще особое психологическое дарование, редкое, именно, у психологов-теоретиков: умение отделять подлинное самонаблюдение, верное эмпирическое воспроизведение психической жизни в ее реальной конкретности от ее позднейшего анализа и конструкции в отвлеченных научных понятиях. Таким образом, сила Джеймса определяется сочетанием свободы мысли с той правдивостью непосредственного наблюдения, которой обыкновенно препятствует не только связанность мысли, но и вообще, привычка всякого мыслителя подменять восприятие продуктом его логической обработки, т.е. рационализировать его. Именно эти качества были необходимы для правдивой оценки явлений религиозной жизни. Попытка с научной точки зрения осветить ту чуждую и враждебную всякому интеллектуализму сферу пережива-
79
02.II.1910
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
ний, которую мы зовем религией, встречается, вообще, с огромными трудностями, и Джеймсу принадлежит большая заслуга их относительно весьма удачного преодоления.
Новые идеи Джеймса направлены полемически против двух духовных лагерей и как бы борются на два фронта: против сектантов науки, отрицающих религию во имя точного положительного знания, и против ученых богословов и метафизиков, умаляющих конкретную религиозную жизнь и сводящих религию к системе церковных догматов или метафизических теорий. Оба направления, при всем своем несходстве, отражают р а ц и о н а л и з м в двух его видах: натуралистическом и супранатуралисти-ческом. В противоположность этому Джеймс — и в этом одна из крупнейших его заслуг и самая бесспорная часть его выводов — уясняет о п ы т н у ю, конкретную, интуитивную основу всякой религиозности.
Религия по существу есть далекое от всяких рассуждений и умствований непосредственное п е р е ж и в ан и е, особый, захватывающий эмоционально-волевую сферу мистический опыт, который, подобно всякому опытному познанию, несет очевидность в самом себе и с точки зрения самого переживающего его сознания не нуждается ни в каком отвлеченном обосновании своего содержания. Вне такого мистического восприятия невозможна религия, ибо все теоретические доказательства бытия Бога и иных религиозных истин, по мнению Джеймса, весьма мало убедительны и никогда не могут заменить самостоятельного религиозного опыта, дающего подлинное общение с объектом религиозной веры. Основными признаками мистических состояний сознания Джеймс считает их «неизреченность» и «интуитивность». С одной стороны, «мистические состояния» скорее принадлежат к эмоциональной сфере, чем к «интеллектуальной»; поэтому нельзя найти подходящие слова для их описания: «чтобы знать о них, надо испытать их на личном непосредственном опыте», подобно тому, как «нужно музыкальное ухо, чтобы оценить симфонию» и «нужно быть когда-нибудь самому влюбленным, чтобы понять состояние влюбленного». Но, относясь к сфере чувств, мистические состояния, с другой стороны, «являются особой формой познавания»: «при
80
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
помощи их человек проникает в глубины истины, закрытые для трезвого рассудка». Таким образом, мистический или религиозный опыт всегда индивидуален и иррационален, не может быть ни адекватно выражен, ни сообщен другому; и «религий», или «религиозных истин», имеется, в сущности, столько же, сколько есть «р а з н о-в и д н о с т е й р е л и г и о з н о г о о п ы т а»*.
Значительная часть книги Джеймса посвящена описанию многообразных форм религиозных переживаний и типов религиозных натур; и эта психологическая часть его исследования интересна и ценна сама по себе, так как она независима от какой-либо религиозно-философской точки зрения. Но главный и общий интерес работы Джеймса лежит все же в ином — именно в его попытке обосновать объективную ценность описываемых им религиозных переживаний. Джеймс высказывает целый ряд оригинальных и глубокомысленных соображений в пользу объективности религиозного познания; и именно здесь лучше всего обнаруживается та духовная свобода, с которой он подходит к проблеме религии.
Наиболее убедительной и яркой представляется нам отрицательная часть его аргументации. Воспроизводя (неведомо для себя) мысль, высказанную устами одного из героев Достоевского64, Джеймс весьма основательно критикует распространенное рассуждение, которое отвергает объективность религиозных представлений на основании болезненности душевных состояний, образующих их психологический источник. П р о и с х о ж д е н и е какого-либо знания ничего не говорит относительно его о б ъ-е к т и в н о й ценности; нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить никакого знания указанием его источника. Это, теперь уже довольно популярное, постоянно повторяемое всеми кантианцами соображение Джеймс оригинально применяет к теории религиозного опыта. «Медицинский материализм», отвергающий всякую религию, как продукт патологического состояния, есть бессмыслица: никто ведь не осмелится отвергнуть какое-либо научное открытие только на том основании, что автор его не был вполне здоровым человеком. Допуская даже, что мистический опыт доступен т о л ь к о больным, какое мы имеем осно-
* Так, при буквальной передаче, нужно было перевести на русский язык заглавие книги Джеймса.
81
02.II.1910
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
вание в силу одного этого без рассмотрения игнорировать его? Ведь в с е наши знания, истинные и ложные, извне обусловлены известными органическими процессами; а что, если именно болезненное состояние организма расширяет и углубляет наше знание, обостряет наши чувства и открывает новые источники опыта. Гении в большинстве случаев — больные люди, и это не умаляет ценности их творчества; почему же мы рассуждаем иначе о гениях религиозного творчества? «Медицинский материализм» есть дешевое средство отделаться от нежелательных или неприятных вопросов; он ничего не может доказать, а скорее сам опирается на предвзятое и необоснованное отрицание религии.
Как ни просто и элементарно, с теоретической точки зрения, это соображение, — оно есть крупное деяние в области философии религии, навсегда отметающее позитивистические предрассудки и открывающее простор для свободного обсуждения п о с у щ е с т в у религиозных представлений.
Более сложна и менее прозрачна положительная аргументация Джеймса. Вдумываясь в нее и перечитывая соответствующие страницы «Многообразия религиозного опыта», приходишь к убеждению, что, несмотря на всю яркость рассуждений, Джеймс еще колеблется в своих доказательствах истинности мистического знания. У него, в сущности, имеется не одна, а целых три теории по этому вопросу, притом не вполне согласованные одна с другой.
Одна из этих теорий есть метафизико-психологиче-ская «гипотеза» о «подсознательном я»; гипотеза эта слагается из двух утверждений: 1) наше ясное, разумное, обыденное сознание окружено подсознательной сферой, элементы которой лишь изредка вступают в область нашего сознания, и 2) подобно тому, как первая ясная часть сознания дает нам знание об эмпирическом мире, так запредельная (сублиминальная) часть нашего «я» вступает в соприкосновение с иным миром и дает нам знание о нем. Случаи внезапного «прозрения», религиозного «обращения», откровений, видений и т.п. суть не что иное, как переходы содержаний «подсознательного я» в область сознания; и так как это подсознательное «я» действительно знает то, что недоступно
82
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
обыденному сознанию, то такой прорыв наружу подземных сил нашего духа несет с собою подлинное обогащение нашего знания, открывает нам проблески иного мира, обычно скрытого от нас.
Эта гипотеза может оказаться правдоподобной и меткой догадкой; на нее, может быть, наводит ряд психологических фактов, не поддающихся иному объяснению; сам Джеймс сообщает, что он был наведен на нее своими переживаниями в состоянии опьянения окисью азота. Но нетрудно видеть, что она не содержит и не может содержать убедительного доказательства истинности религиозного опыта. В этом отношении она страдает тем же недостатком, в котором Джеймс упрекает «медицинский материализм»: проблему объективного значения религии она хочет решить уяснением ее психологического источника. Истинная трудность вопроса не разрешается, а только отодвигается: ибо убеждение в том, что «подсознательному я» открывается подлинная, высшая реальность, есть совершенно недоказуемая ли ч н а я в е р а самого Джеймса, в чем он, впрочем, вполне откровенно признается. Строго говоря, эта гипотеза относится не к обоснованию религии, а к психологическому объяснению мистических состояний; и так можно было бы толковать ее значение у самого Джеймса, если бы его «личная вера» не придавала ей оттенка научного «оправдания» религии. Именно ученая внешность этой гипотезы легко может ввести в соблазн и заставить предполагать, что религия здесь «научно» доказана, тогда как в действительности в ней изложено лишь мистическое верование самого автора, верование, авторитетность которого всецело зависит от решения общего вопроса о ценности веры.
Другая теория, которою Джеймс пытается обосновать объективное значение религии, есть так называемый «праг-матизм»65. Прагматизм есть та новая, защищаемая самим Джеймсом и другими английскими и французскими мыслителями философская доктрина, которая усматривает смысл и ценность всякого знания не в его абсолютной теоретической истинности, а в его жизненной надобности, в практической пригодности его для нужд человеческого существования. Здесь не место давать изложение и оценку этого философского направления. Достаточно отметить,
83
0211910
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
что, исходя из общего «прагматического» убеждения, Джеймс требует, чтобы ценность религиозной веры доказывалась по ее «плодам»; выяснив ту огромную моральную и культурную функцию, которую выполняет вера в человеческой жизни, Джеймс считает тем самым доказанным объективное значение религиозной веры. Несмотря на все остроумие аргументации автора и ценность тех примеров, которыми он иллюстрирует свою мысль (ср<авним>, наприм<ер>, интересное и беспристрастное описание американского мистического движения «духовного врачевания»), — эта точка зрения производит странное впечатление каким-то своеобразным сочетанием искренней симпатии к религии с почти незаметным для самого автора циническим нигилизмом. В самом деле, о п р а в д ы в а т ь религию ее пользой для жизни — хотя бы речь шла не о политической пользе религиозности народных масс, а об общей полезности религии для человеческой жизни, — значит о т р и ц а т ь религию и из высшего, самодовлеющего достояния превращать ее в служебное средство. В этом смысле «прагматизм» есть лишь выражение скептического неверия, которое, признав объективно ничтожным в с я к о е знание, выводит относительную практическую правомерность религии. Для верующего, во всяком случае, не ценность религии определяется ее практическими результатами, а, напротив, все практические ценности жизни подчиняются религиозному миропониманию и определяются религиозными мотивами. В этом рассуждении сказывается чисто англо-саксонская «практичность», для которой высшим и всеобщим мерилом являются некоторые реальные и как бы бесспорные жизненные нужды; но ведь именно религия изменяет и пересоздает все наши представления о нуждах и, следовательно, не может сама ими измеряться*.
* От прагматического критерия ц е н н о с т и знания (в том числе религиозного) следует отличать прагматическое толкование с о д е рж а н и я (смысла) религиозных идей. Последнее развивается преимущественно французским прагматизмом (например, в теории догмата Ле Руа) и сводится к ценному указанию, что религиозный догмат есть не отвлеченное понятие, имеющее теоретическое назначение, а особое эмоционально-символическое знание, смысл которого состоит в уяснении практического отношения человека в Богу. Наоборот, объективную и с т и н н о с т ь религии французский (католический) прагматизм открыто основывает на откровении.
84
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
Однако и эта «прагматическая» теория религии не затрагивает собственного ядра аргументации Джеймса, и это очень важно отметить, ибо в общественном мнении «прагматизм» и «теория религиозного опыта» Джеймса совершенно неправомерно сливаются в представление о каком-то едином учении. Необходимо, напротив, подчеркнуть, что учение Джеймса о религиозном опыте гораздо более основательно и глубоко, чем сомнительная и уже модная философская доктрина прагматизма. Наряду с изложенными двумя спорными обоснованиями религии, у Джеймса имеется еще третье и самое важное обоснование, которое по существу освобождает от необходимости подкреплять религиозную веру какими-либо теориями. Это — та точка зрения, которую сам Джеймс называет «методом радикального эмпиризма».
«Метод» или, вернее, гносеологический принцип «радикального эмпиризма» (весьма приближающийся к точке зрения, которая в философии зовется «наивным реализмом») есть убеждение, что непосредственное опытное переживание само по себе содержит достоверное и неопровержимое свидетельство реальности своего объекта. Устраняя обычный дуализм между «только субъективным» представлением и его объективным предметом и отвергая распространенную логическую теорию, согласно которой достоверность есть результат особого акта суждения, присоединяющегося к представлению, Джеймс еще в своих «Основах психологии» утверждал (вслед за Спинозой66), что иметь представление и сознавать реальность его объекта есть по существу одно и то же. Не признание реальности объекта представления, а, наоборот, ее отрицание есть особый акт, который в отдельных, исключительных случаях приступает к представлению и вытесняет его непосредственную убедительность. Это имеет место, когда новый опыт не может быть примирен с привычным и устойчивым содержанием всего прежнего опыта; тогда мы называем представление «субъективным», т. е. выключаем его содержание из системы «действительности», в которую спаялись наши прежние представления; это, однако, нисколько не исключает реальности объекта представления, которая тождественна с его «данностью», а может только, так сказать, отнести ее к иной действительности
85
02.11.1910
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
(наприм<ер>, психической). Таким образом, абстрактная, безличная действительность не есть что-либо единое, абсолютное и самодостоверное, а есть лишь своеобразная, выделившаяся область в пределах первичной, живой, личной реальности всего содержания сознания. Применяя это рассуждение к объекту мистического или религиозного опыта, следует прежде всего признать, что нет никаких оснований безусловно отвергать его реальность. Мистический опыт обыкновенно не противоречит всему остальному опыту, ибо относится к «иному миру» и не изменяет совокупности других представлений. Но если бы даже такое противоречие имело место, то ведь прежний опыт принципиально не более авторитетен, чем новый, и потому не может дать убедительного опровержения последнего. «Мистический опыт», конечно, не убедителен для того, кто его не пережил сам, но, с другой стороны, в полной мере авторитетен для того, кто пережил его; и притязание людей, лишенных мистического чувства, на непререкаемость и общеобязательность и х картины мира столь же неправомерно, как, наприм<ер>, возможное мнение слепого об «измышленности» зрительных ощущений. В этой связи Джеймс посвящает особую, в высшей степени поучительную в психологическом и гносеологическом отношении главу «чувству присутствия невидимого». Мистические состояния не всегда имеют характер «видений» или «голосов», т.е. ясных зрительных или слуховых образов; весьма часто они сводятся к сознанию присутствия невидимой и вообще чувствительно не воспринимаемой реальности. Это «сознание» или «чувство» реальности, однако, с о в е р ш е н н о т а к ж е у б е д и т е л ь н о для переживающего его, как и всякий другой опыт, и было бы близоруко и неосновательно априорно отрицать его достоверность.
Общий вывод из этих соображений тот, что мистический опыт несет свою достоверность в самом себе и вообще не нуждается ни в каких доказательствах. Нельзя сказать, чтобы эта точка зрения была проведена у Джеймса вполне последовательно и отчетливо. Он, в сущности, и здесь колеблется между двумя позициями, коренное различие которых он не отмечает достаточно ясно. С одной стороны, он как бы отвергает само понятие объективной и общеобязательной действительности,
86
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
признавая его только научной абстракцией, имеющей служебное назначение (вполне открыто он это делает в книге о «прагматизме»), и становится на своеобразную точку зрения, для которой различие между восприятием и фантазией, реальностью и галлюцинацией вообще исчезает. Интерес к действительности и весь вопрос о ней здесь устраняется, и внимание сосредоточивается на самом переживании, как факте и содержании непосредственной личной жизни, самоочевидность которой, разумеется, стоит выше всяких сомнений. С другой стороны, он пытается доказать подлинную объективную реальность предмета религиозного опыта и заходит в этом отношении так далеко, что даже мечтает об особой науке, которая, очистив и примирив многообразный и противоречивый религиозный опыт, даст нам общеобязательную (хотя и гипотетическую) картину высшего, духовного мира, доступного через мистические озарения. Первая точка зрения, основанная на устранении самой проблемы, философски совершенно бесплодна и лишь весьма характерна для отмеченного уже стремления возродить веру на почве универсального скептицизма и субъективизма. Напротив, вторая точка зрения, при всей своей парадоксальности, содержит глубоко ценные намеки на обоснование религиозного мировоззрения. Как ни проблематична ожидаемая Джеймсом «наука о религиях» — ибо нельзя усмотреть, откуда она возьмет критерии для общеобязательной обработки многообразной религиозной интуиции, — все же самая мысль о принципиальном равноправии «мистического» опыта со всяким иным опытом в высшей степени плодотворна. В философской теории опыта в настоящее время происходит глубокий поворот, освобождающий ее от наивно-догматического сенсуализма: укажем на теорию восприятия Шварца, на «интуитивизм» Н.О. Лосского67, на уяснение интуитивного восприятия «чужого я», на учение об «Einfuhlung» у Липпса, Генриха Гомперца68 и др., на разработку «эмоционального познания» и т.п. В этом же направлении идут глубокие и блестящие соображения Джеймса. Это движение ведет к признанию и н-т у и ц и и основой всякого опытного знания и тем самым вскрывает общий корень «знания» и «веры». Отсюда действительно открывается перспектива «оправдания»
87
02.11.1910
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
религии не путем дополнительного отвлеченного доказательства ее истин, — что явно немыслимо, — а путем уяснения первичности и философской законности ее источника знания.
Таким образом, в обосновании религии у Джеймса много шаткого, непродуманного и неуверенного. Само миросозерцание Джеймса находится в состоянии неустойчивого равновесия, колеблясь на острой грани, отделяющей глубочайший скептицизм от оптимистической уверенности в объективной правде религиозных идей. Эта теоретическая незаконченность в известном смысле есть не недостаток, а скорее даже достоинство его труда. В общем теперешнем виде он лучше всего отражает переходный, мятущийся, ищущий характер современного религиозно-философского сознания. При всех своих несовершенствах, эта книга дает больше духовного утешения и интеллектуальной радости, чем самые законченные и последовательные философские системы. Книга Джеймса — живой рассказ о религиозной жизни, о человеческих исканиях, надеждах и сомнениях; не столько своими аргументами, сколько яркостью своих изображений и всем своим стилем она достигает своей цели — изобличить духовную скудость рационалистического упрощения жизни и показать непреодолимые, вечные права религиозного чувства.
Из газетных отчетов
В Религиозно-философском обществе
2 февраля в Религиозно-философском обществе с большим интересом был выслушан многолюдным собранием доклад С.Л. Франка «Религиозная философия Джеймса». Докладчик разбирал недавно вышедшую (есть уже в русском переводе) книгу Джеймса «Многообразие религиозного опыта». Г. Франк горячо приветствует появление в свет этой книги. Есть книги, которые создают эпохи. Вначале они идут вразрез со всеми сложившимися в науке и обществе воззрениями, но потом оказывается, что они как раз отвечают назревшей потребности переоценки устаревших ценностей. Такова, по мнению г. Франка, книга Джеймса.
В настоящее время в европейском обществе именно назрела потребность коренной переоценки сравнительного значения науки и религии и, после утомления «банкротством науки», в обществе замечается поворот к религии. Но что разумеется под словом «религия»? Каждый век по-своему понимал религию. Наше время вносит в это понятие более утонченное, более эластичное содержание. Религия
уже не понимается, как застывшая система догматов и учреждений. Теперь все более и более получает господствующее положение взгляд на религию, как на опытное эмоционально-мистическое переживание. Элементы религиозного — «неизреченность» и «интуитивность» (моменты религиозного переживания) — вот две характерных черты религиозной жизни в новейшем понимании религии. Книга Джеймса, трактующая религию именно как эмоционально-интуитивное личное переживание, дает научную санкцию новому пониманию религии. Г. Франка не удовлетворяет положительная часть аргументации Джеймса, но отрицательная часть представляется ему совершенно бесспорной. Здесь Джеймс исходит из той же мысли, из которой исходил раньше него Достоевский, — «могут ли привидения являться только больным людям».
На положительном ответе базируются представители называемого Джеймсом «медицинского материализма». Отрицатели религии этой категории ссылаются обыч-
89
ИЗ ГАЗЕТ
С.Л. Франк. Религиозная философия Джеймса
но на болезненность основателей и наиболее ярких носителей религии. Джеймс доказывает всю неосновательность «медицинского материализма». Гении нередко бывают больные люди, но это нисколько не дискредитирует гениальность сделанных ими открытий.
Переходя к положительной части аргументации Джеймса, г. Франк признает за некоторыми сторонами ценность и плодотворность.
Но в общем видит неустойчивость, даже противоречия, словом, невыработанность взглядов Джеймса в данной постановке. Так, гипотеза «запредельного я» по доказательности аналогична с «медицинским материализмом». Но особенно обнаруживает двойственность Джеймса его «прагматическая» аргументация. Прагматизм для религии, по словам докладчика, это «самый необузданный скептицизм». И видеть в его лицевой стороне обоснование религии (в ее полезности для жизни) значит унижать религию.
Но от прагматического «обоснования» надо отличать интер-
претационное значение прагматизма, его «истолкование» содержания религиозных идей. Эта роль прагматизма, по мнению г. Франка, весьма ценна и может повести к весьма важным и плодотворным последствиям понимания религиозного.
Так, сам Джеймс, между прочим, серьезно останавливается на движении в Америке, оправдывающем целителей человеческих болезней молитвою, — что в недавнее время считалось шарлатанством.
Наиболее ценной, по мнению г. Франка, является у Джеймса точка зрения «радикального эмпиризма». Глава о «чувстве присутствия незримого» представляет в книге Джеймса наибольший интерес, как фактическое обоснование новой теории опыта (у нас проф. Лосский и Введенский). И отсюда вывод: мистический опыт несет достоверность в самом себе.
Книга Джеймса, заключает докладчик, есть живой и полный огня рассказ о духовной жизни. После доклада происходили прения, в которых приняли участие г. Алексеев, С.И. Гессен, Базаров.
Н. О.
ЗАСЕДАНИЕ 28 ФЕВРАЛЯ 1910 г.
В.В. Бородаевский
О религиозной правде Константина Леонтьева
Константину Леонтьеву суждена посмертная известность. Возрастает интерес к его идеям и личности, имя его, лет 5 тому назад знакомое редким единицам, близкое лишь нескольким чудакам, которых можно было пересчитать по пальцам, слышится все чаще и чаще. Уже легенда слагается вокруг этого имени зараз раздражающего и влекущего, а более всего пугающего. Его называют страшным и соблазнительным, пишут о гремучей змее эстетизма, погубившей неистового оптинского монаха. Образ его как бы растет в наших глазах — растет и окутывает грозными тенями, черты мрачного сатанизма открываем мы в этом «ницшеанце до Ницше», который с коварством инквизитора творит какое-то кощунственное дело над душой человеческой. Иные вслед за Аксаковой69 называют его врагом Христа, и, возводя его на пьедестал, громогласно и торжественно предают анафеме. И вместе с тем какая-то правда слышится нам в этой страстной убежденной речи, не ведавшей масок и прикрытий. Я думаю, что изучение Леонтьева должно внести нечто новое в круг наших религиозно-философских представлений. Синтетическая, всеобъемлющая мысль Владимира Соловьева усвоялась нами односторонним образом. Если в самом Соловьеве гармонически сочетались подчинение Церковному авторитету с началами рационализма и созерцательно-мистическим, то влияние его распространялось главным образом на систему мыслей, обращенных к
91
28.11.1910
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
началу рационалистическому, может быть потому, что в самом стиле его, в самой ткани его мыслей рассудочное начало всегда преобладало над эмоциональным, окрашенным сердечными переживаниями, и ближе ему было доказывать, нежели убеждать. Совсем иным как личность и писатель был Леонтьев. Уступая Соловьеву в широте и многообразии даров, он превосходил его остротой восприятий, страстью, которая толкала его на крайние незащищенные позиции, влекла его к парадоксу, создала страницы, где каждая строчка живет и дышит. Темы Леонтьева волнуют нас, ответы его нам ненавистны, мы стоим перед этим образом как перед непонятным, темным феноменом, провидя в нем какую-то странную поучительность; указываем на него и предостерегаем... И никак не подберем ключа, который раскрыл бы нам тайну этой сильной уединившейся души.
Одна за другой предстают нам разрозненные черты его как бы раздробленной «нестерпимо сложной» природы, как говорил сам Леонтьев, и перед нами проходит то политик-реакционер, непримиримый противник либерального прогресса, фанатик общественного неравенства, не отступающий перед защитой самых жестоких форм насилия; то эстет-язычник, возлюбивший силу и красоту, борьбу во всех ее видах, если только она выявляет сокрытую духовную мощь борющихся; эстета сменяет византийский монах, покорно вручающий старцу свою жестокую, слишком земную волю; вместе с тем выступает пророк, предрекающий гибель человечества «по писанию» и по разным позитивным соображениям, какой-то новозаветный Иона, жаждущий разрушения Ниневии. Богатство этой души, действительно неисчерпаемое, ставит в тупик. Как примирялись в нем эти враждебные начала, да и примирялись ли? Мы слышали только отрицательный ответ: нет, не примирялись. Леонтьев, раздираемый противоречиями, — читаем мы — так и не смог до конца объединить религиозные чаяния с эстетическими запросами и страстями политика. О неслиянно-сти его идеалов говорил еще Вл. Соловьев70, и это суждение было принято и вошло, как общее место о Леонтьеве, во все, что о нем позже писалось. Задача моего доклада — осветить религиозное воззрение Леонтьева, отметить ту правду, которую он утверждал, однако мимоходом мне
92
ДОКЛАД
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
придется коснуться и всех сторон его духа. Здесь прежде всего я должен сказать, что мировоззрение Леонтьева считается загадочным, пока мы не установим основного начала, образующего стихию его духа, некоторой общей психической предпосылки, которая определила сложный узор его духовного облика. Многоликость его может быть понятна лишь при общем начале, иначе Леонтьев погиб бы не только метафизически, — как о нем думают иные, — но и здесь, в земном круге, обратился бы в какое-то мятущееся перекати-поле, чего, однако, не случилось.
Объединяющий центр в этой душе был, был фундамент, на котором строил он свое мировоззрение, а позже — после пережитого религиозного кризиса — утвердил себя в религиозной народной стихии русской души. Этим первичным в Леонтьеве был Иерархизм, инстинкт Иерархизма, с которым он родился, и жил, и сошел в могилу. Инстинкт этот охватывал и сближал обособленные сферы — эстетизма, реальной политики, мистики. Он был вдохновителем и целителем Леонтьева в его скорбях и страданиях, им был он водим и в своем тяготении к прекрасному, поскольку видел в нем воплощение идеального Иерархизма, и в сфере социальных отношений, где искал он и требовал стройной системы соподчиненных сил и, наконец, в сфере религиозной, которую он всецело передавал водительству церкви, ее догматам и учению, утверждающему извечный Иерархизм духовного мира. Такова стихия леонтьевского духа. Над ней воздвигалось нечто иное, высшее. Если иерархист-Леонтьев призван был определенным образом чувствовать и мыслить, мистик Леонтьев еще более определенным образом, с абсолютной для себя достоверностью нечто ведал. Здесь мы подходим к сокровенному Леонтьева, здесь мы можем познать его не только в общепризнанном качестве эстета, радеющего о каком-то крайнем сверх-православии, и по упорству ли, капризу ли, выворачивающего наизнанку привычные представления и вкусы культурных его современников, а поймем в нем мистика, который знал, куда он идет, и чья рука ведет его. Я говорю о религиозном опыте Леонтьева. Я говорю о его обращении летом 1871 года, после которого, — как утверждал Леонтьев, он от веры и страха Господня отказаться уже не мог, если бы даже и хотел71.
93
28.II.1910
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
Книга Аггеева стр. 80-81.
Мимо этого документа высочайшей религиозной важности нельзя пройти. Он говорит о высшем Леонтьева, о том мистическом опыте, который был для него убедительнее всех диалектических доводов вместе взятых. Страх смерти явился одним из слагаемых этого опыта. Блаженный Августин говорил в своей «Исповеди» (Кн. VI. Гл. 16) о годах, предшествующих обращению: «Ничто не останавливало меня на широком пути, ведущем в глубину зол. Только страх смерти и будущего суда, только один этот страх служил для меня некоторым обузданием». После этого как-то даже скучно обосновывать примат страха Божия, вырастающего из темного, животного страха, слушать возражения о том, что первичнее, что выше: страх или любовь. Важно понять целостное религиозное переживание, определившее все дальнейшее, то откровение, которое понято было как чудо, как чудесное предстательство Божьей Матери, вырвавшей погибающего человека из челюстей смерти, человека, ужаснувшегося этой безвременной смерти, которая разверзла перед его духовным взором врата вечной гибели. Богоматерь — ощутил он — осенила смятенный дух своим покровом; духовный страх перешел в упование на божественную любовь; Вседержитель явил отчий лик, но забыть это начало Божьего страха он уже не мог. Отвага и дерзновение его позднейшей мысли зиждились на той уверенности, что он не может быть оставлен водительством Божьим, если пребудет верен данному обету: «Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, постригусь в монахи»72. Вся это поразительно цельно, как бы даже — для наших дней — наивно. Странные слова, которые были бы так обычны для человека прежних времен.
Свято исполнил этот свой обет Леонтьев, и религиозное чувство его неразрывно слилось с богоощущением русского народа; не потребовалось опрощения, потому что не выводить народ из Церкви призван был Леонтьев, а войти в нее самому и поклониться общей народной святыне. Отмежевать себя от иррелигиозных начал стремился Леонтьев вплоть до отречения от современной Европы и европейского с тем, чтобы постичь единство Кафо-
94
ДОКЛАД
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
лической Церкви и признать (Вост<ок>, Россия и Славянство73. Т. 2. С. 306), что «Римская Церковь, все-таки Великая и Апостольская, несмотря на все глубокие, догматические оттенки, отделяющие ее от нас».
Как религиозный тип исторически и психологически Леонтьев стоял на почве второго момента гегелевой триады — антитезе. Дух антитезы вообще был мощным двигателем его мысли. «Эстетику приличествует, — говорил он, — во времена неподвижности быть за движение, во времена распущенности за строгость; художнику прилично быть либералом при господстве рабства; ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии, немножко libre penceur1 при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии». Здесь неожиданное совпадение с Байроном. «Первый момент общей республики обратил бы меня в защитника деспотизма», — писал Байрон в одном из писем к Томасу Муру. — Этот общий дух протеста против ходячих ценностей в области религиозной мысли вдохновлял его к защите чуждых современному религиозному сознанию основ христианства: страха, послушания, подвига. Основы эти, являясь в историческом процессе вторичными — генетически, должны быть признаны начальными, исходными, потому, что в душе человеческой любовь не предшествует страху, а следует за ним, свобода вырастает из послушания и благодать из подвига, а не наоборот. Именно потому утверждение этих начал Леонтьевым имеет не только субъективную, относительную, но и пребывающую ценность.
Это в области религиозной правды. В области философствования о вере утверждал Леонтьев откровение, упраздняя права рационализма, проповедовал антропологический пессимизм, долженствующий прийти на смену антропологического оптимизма. Отсюда его борьба с аморфным морализмом, с тем, что он называл «розовым христианством»74. Отсюда же аскетизм, культ мученичества, ненависть к внецерковной культуре, к республике всеобщей сытости.
Последуем за Леонтьевым в его догматических утверждениях. Любовь и страх... «Любовь моральная, т.е. искреннее желание блага, — пишет Леонтьев, — сострадание или радость на чужое счастье и т.д. может быть религиозного происхождения и происхождения естественного,
Свободомыслящим (фр.).
95
28.II.1910
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
т.е. производимая (без всякого влияния религии) большой природной добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже лучше естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви или милосердия может дойти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей»75. «Начало премудрости (т.е. настоящей веры) есть страх, а любовь только плод. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом76». «И поэзия земной жизни и условия загробного спасения — одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, .. -1 а, говоря объективно, некой как бы гармонической, ввиду высших целей борьбы вражды с любовью. Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники. Разумеется, тут естественен вопрос: "кому же взять на себя роль разбойника, если это не похвально?" Церковь отвечает на это не моральным советом, обращенным к личности, а одним обще-историческим пророчеством: "Будут разбойники"»77. «Смирение, шаг за шагом, ведет к вере и страху под именем Божьим, к послушанию учению Церкви, этого Бога нам поясняющей. А любовь — уже после. Любовь кроткая себе самому приятная, другим отрадная всепрощающая, — это плод, венец, это или награда за веру и страх, или особый дар благодати, натуре сообщенный, или случайными и счастливыми условиями воспитания укрепленный»78. «Гуманность есть идея простая: Христианство есть представление сложное. В христианстве между многими другими сторонами есть и гуманность или любовь к человечеству "о Христе", т.е. не из нас прямо истекающая, а Христом даруемая и Христа за ближним провидящая. От Христа и для Христа. Гуманность же простая "автономическая", шаг за шагом, мысль за мыслью, может вести нас к тому сухому и самоуверенному утилитаризму, к тому эпидемическому умопомешательству нашего времени, которое можно психиатрически назвать: mania democratica progressivaII»79.
От Христа — и для Христа. Этими словами христианская любовь возведена Леонтьевым на ту религиозную
I Так в оригинале.
II Прогрессирующая мания демократии (лат.).
96
ДОКЛАД
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
высоту, на которой утверждают ее глубочайшие мистики христианского мира. В «Разговоре о сверхчувственной жизни учителя с учеником» Якова Бёме80 на вопрос ученика: каким образом то, что делается человеку, приемлется за сделанное самому Христу, учитель отвечает: Христос существенно живет в совершенно предающихся Ему, в вере их, и дает им в пищу плоть свою и в питие кровь свою, обладая таким образом в вере их внутренним человеком. Творящий что христианину творит то также Христу и членам собственно тела, и даже самому себе, если он Христианин, ибо во Христе мы все едино, как дерево со своими ветвями есть одно дерево.
Все эти выписки, которые могли бы быть дополнены многими другими, ведут к общему утверждению: любовь как естественное личное расположение души есть дар, а не предмет религиозной обязанности, и потому не может быть задачей религиозного делания. Плодотворной любовь становится лишь на почве верующей и возрожденной души.
Возрождение это начинается прежде всего страхом Божьим. «Страх доступен всякому — утверждает Леонтьев: и сильному и слабому; страх греха, страх наказания и здесь и там, за могилой... Кто боится, тот смиряется; кто смиряется, тот ищет власти над собой, власти видимой, осязательной, он начинает любить эту власть духовную, мистически, так сказать, оправданную перед умом его. Страх Божий, страх греха, страх наказания и т.п. уже потому не может унижать нас даже и в житейских наших отношениях, что он ведет к вере, а крепко утвержденная вера — делает нас смелее и мужественнее против всякой телесной и земной опасности: против врагов личных и политических, против болезней, против зверей и всякого насилия»81. «Смесь страха и любви — вот чем должны жить человеческие общества, если они жить хотят. Смесь любви и страха в сердцах. Священный ужас перед известными идеальными пределами; любящий страх перед некоторыми лицами; чувство искреннее, а не притворное только для политики; благоговение, при виде даже одном, иных вещественных предметов»82. Начало страха есть одно из начал наиболее чуждых современному религиозному сознанию. Поразительно, что большинство писавших о Леонтьеве даже и не заметили, с какой легко-
97
28.II.1910
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
стью перескочили они через эту идею мистического страха. Они говорили только о безблагодатном Леонтьеве, не знавшем любви. И от мистических корней религии переходили к соображениям исключительно психологического характера: Леонтьев жесток, Леонтьев не просветлен. Да, жесток и непросветлен, но разве это сколько-нибудь умаляет значение того, что он говорил? Или только Леонтьеву было чуждо то, что он называл «ежечасным незлобием, ежеминутной елейностью»?83 Но он не мог забыть религиозного опыта своего; «Дурной страх, — мог бы он повторить вслед за Паскалем, — происходит не оттого, что люди верят в Бога, а оттого, что они сомневаются, есть Он или нет Его. Добрый страх соединен с надеждою, потому что он рождается из веры, и потому что люди надеются на Бога, в которого веруют; ложный страх соединен с отчаянием, потому что человек боится Бога, в которого он не имеет веры. Одни боятся потерять Его, другие боятся найти Его».
Свобода и послушание. Леонтьев, душа которого жаждала Иерархизма, не мог иначе как с ненавистью говорить о свободе самочинной, Иерархии не признающей. Сам он принял обязывающий обет послушания, здесь пафос его утверждений и отрицаний достигает высочайшей силы и напряжения. Принципы 89-го года84 не имели большего ненавистника, чем Леонтьев; здесь он не знал пощады, и в его ярых нападениях мы, разумеется, без труда отметим забвение меры и границ — огульное отрицание Запада, разрушенного либерально-эгалитарным прогрессом. «Как мне хочется теперь, — писал он в ответ на восклицание Достоевского "О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!" — воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих, мне сочувствующих: — "О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного своим заразительным дыханием!.." Если такого рода ненависть "грех.", то я согласен остаться весь век при таком грехе, рождаемом любовью к Церкви. Я говорю к Церкви, даже и Католической, ибо, если б я не был православным, то желал бы, конечно, лучше быть верующим католиком, чем эвдемонистом и либерал-демократом!!! Уж это слиш-
98
ДОКЛАД
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
ком мерзко!»85 «Либерализм, — утверждает Леонтьев, — есть отрицание всякой крайности, даже и самой высокой, всякого стеснения, всякого стиля. Он везде один, везде одинаково отрицателен; везде одинаково разлагает нацию, медленно и легально, но верно»86 (<2 сл. нрзб.> Варш<авский> днев<ник>. 1880 г.). «Пора положить конец развитию мещански либерального прогресса! Кто в силах это сделать, тот будет прав и перед судом исто-рии!»87 «Стоит только юноше сказать себе: (В<осток>, Р<оссия> и Сл<авянство>. Т. 2. С. 41) "я не знаю, что такое вещество и никогда не узнаю здесь на земле", чтобы шаг за шагом, от сомнения в твердости и точности всех названных основ он бы скоро дошел до веры в дух, от веры в дух до веры в личного Бога, от веры в личного Бога до искания форм сношения с Ним, до положительной религии; от положительной религии до живого патриотизма, до "страха Божия", до любви к предержащим властям; ибо истинное христианство учит, что какова бы ни была по личным немощам своим земная иерархия, она есть отражение небесной». Здесь мысль Леонтьева доведена до последней остроты и обнаженности. Леонтьев, защитник власти, не был консерватором в обычном смысле слова. «Быть просто консерватором в наше время было бы трудом напрасным. Можно любить прошлое, но нельзя верить в его даже приблизительное возрождение»88. Он взывает к творчеству — творчеству, которому гордо дает имя реакционного, отмечая лишь, что эта реакционность не совпадает с понятием регресса. В статье «Национальная политика как орудие всемирной революции»89 он говорит, что «охранение от неразвитости, от отсталости ненадежно; надежно созидание нового высшим, более развитым классом, за которым рано ли поздно следует народ». На этом пути мысль Леонтьева идет очень далеко. Ему рисуются широкие перспективы, иного, обновленного строя, какого-то своеобразного мистического социализма. «По нашему мнению, — говорит он ("А.И. Кошелев и об-щина"90), — одним из главных призваний славянства должно быть именно постепенное уничтожение в среде своей того свободного индивидуализма, который губит все современные общества. Чтобы выразиться яснее, вообразим себе, рядом с крестьянскими мирами, сравнительно бедными, безграмотными или мало образованными, — дру-
99
28.II.1910
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
гие общины, богатые, просвещенные и вместе с тем религиозные; свободно, положим, в начале собравшиеся; но вследствие гнетущей, однако, силы обстоятельств постепенно потом сложившиеся не в простые обыкновенные ассоциации, подвижные и неосновательные, как и все собственно нынешнее, а в корпорации обязательные и строгие, напр<имер> как бы вроде монастырей, но с семейным характером. Такие корпорации, богатые и сильные умственно, к тому же либерализму личному вовсе чуждые, могли бы успешно бороться и отстаивать как себя, так и все остальное, носящее на себе печать общности, против всякого внешнего излишнего давления».
Отрицая весь церковный индивидуализм, призывая к своеобразному мистическому коллективизму, проникнутому до конца началом Иерархии, — Леонтьев вдруг как бы неожиданно взывал к умственной дерзости (в статье «Храм и Церковь»91), свойственной всем истинно культурным творческим народам, и утверждает силу созидания, которая есть прежде всего прочная дисциплина интересов и страсти.
Рассказ Леонтьева о преступлении раскольника Ку-ригина и казака Кувайцева не раз приводился в печати. Куригин зарезал родного сына, семилетнего мальчика, веруя, что исполняет волю Бога; Кувайцев отрыл труп любимой женщины, отсек руку и палец и хранил у себя под тюфяком. «Обыкновенный суд, — замечает Леонтьев, — так же как и справедливая полицейская расправа (не исчерпывают бесконечных прав личного духа) суть проявления "правды внешней", и ни государственный суд, ни суд так называемого общественного мнения, ни полицейская расправа не исчерпывают бесконечных прав личного духа, до глубины которого не всегда могут достигнуть общие правила законов и общеповальные мнения людей. Судья обязан карать поступки, нарушающие общественный строй, но там только сильна и плодоносна жизнь, где почва своеобразна и глубока даже в незаконных своих произведениях. Куригин и Кувайцев могут быть героями поэмы более, чем самый честный и почтенный судья, осудивший их». В этом рассказе весь Леонтьев, вся игра светотеней его безгранично отважного духа. Здесь и эстетизм его, и до конца не преодоленная жестокость, этот темный огонь мятущейся страсти, и утверждение какой-то иной
100
ДОКЛАД
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
неземной свободы духа человеческого. Эту свободу горячо приветствует Леонтьев, так как здесь она развивается перед ликом Божьим, и самые грехи и падения ее проникнуты духом Боговластия. Начало власти красной нитью проходит через все его речи, так или иначе касающиеся политики. «Государственная сила, — пишет он, — есть скрытый железный остов, на котором великий художник — история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни»92. Я не буду останавливаться на политических идеях Леонтьева, на культе грозной и жестокой государственности, которую — мечтал он — призвана и может еще явить Россия, не до конца разъеденная западными началами. В громоздкой колеснице русской реакции Леонтьев был, в сущности, пятым колесом. Слова его не были действенными, хотя многое делалось так, как хотел Леонтьев. Неуспех его личной проповеди, недостаток понимания к тому, что он говорил, были так разительны, что Леонтьев иногда прибегал к некоторому мистическому толкованию этого необъяснимого для него и его друзей явления. Так, например, он говорит («Национ<альная> полит<ика> как оруд<ие> всемир-<ной> революц<ии>»): «Провидению не угодно, чтобы предвидения уединеннного (одинокого) мыслителя расстраивали бы ход истории посредством преждевременного действия на слишком многие умы». Ему не суждено было охранить железный остов Государственности (к концу дней вера Леонтьева в крепость этого остова ослабевала), и не на него возложено было дело наколачивания железных обручей, которые сковали бы разлагающееся изнутри государственное тело. Если Леонтьев в своих политических утверждениях мог заблуждаться, то, утверждая Церковь как реально-мистическое тело Христово, как строго иерархический строй, который имеет совершенно особую, независимую от земных случайностей, навеки прибывающую ценность, — он утверждал себя право и незыблемо. Здесь лежала граница его свободному самоопределению, и, стоя на этом камне, он, конечно, не мог творить «дела антихристова».
О подвиге Леонтьев писал много и красноречиво. Книга о Клименте Зедергольме93 почти вся посвящена уяснению с разных сторон этого начала. «Христианство в основании своем безустанное понуждение о Христе;
101
2S.1I.1910
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
и все наши добрые качества, облегчающие нам от времени до времени эту борьбу духа и плоти, суть ничто иное, как дары Божии. Заслуга только в вере, покаянии и смирении, если не можешь понудить себя; все невольно хорошее в нас, все естественно доброе есть дар благодати для облегчения борьбы. Когда, вопреки сухости сердца и равнодушия ума, идет Христианин в Церковь или дома становится на принудительную молитву, это выше с точки зрения личной заслуги, чем молитва легкая, радостная, умиленная, горячая». — Когда говорят, что эстетизм Леонтьева стоял в разительном противоречии с его христианскими представлениями — в том числе с началом подвига — что тут было самосожигание Леонтьева, — я думаю, это большое недоразумение1. Эстетику считал он лучшим мерилом для истории и жизни потому, что мерило это может быть приложено ко всем векам и странам, исповедующим любое вероучение и охватывает лица и события, которые не могли бы быть оправданы чисто моральным критерием. «Даже некоторые святые, признанные христианскими, не вынесут чисто этической критики», — отмечает Леонтьев, а это для него довод решающий и не против суровых, жестоковыйных святых, воздавших Церковь, а против самого отвлеченного критерия. Эстетике оставлено, таким образом, широкое поле применения в той области, где христианское начало либо отсутствует, либо слабо проявлено. Здесь иными словами утверждается мысль, которую не раз высказывали, что всякое событие, всякий поступок, способные стать предметом художественного произведения, одним этим получают свое оправдание. <«>В случае же столкновения эстетических норм с требованиями христианства в христианской душе, — говорил Леонтьев, — победу должно одержать христианство. Борьба этих начал в душе не может быть осуждена как нечто недостойное; это борьба — основа всякого подвига, который есть постоянное "понуждение о Боге" или "предание" себя Богу, т.е. в подвиге должно различать начало активное и пассивное»11.
Оба эти начала, обычно в слиянном виде, изучены Леонтьевым. Начало активного подвига Леонтьев вносит в самое сердце религиозных убеждений, и здесь он
I Предложение подчеркнуто карандашом и выделено знаком на полях рукописи.
II Выделенная часть предложения подчеркнута карандашом.
102
ДОКЛАД
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
особенно характерен: «Я верую, — говорит он Зедер-гольму, — потому, что по немощи человеческой вообще и моего разума в особенности, что по старым, дурным и неизгладимым привычкам европейского, либерального воспитания кажется мне абсурдом. Оно не абсурд, положим, само по себе, но для меня как будто абсурд. Однако я верую и слушаюсь. Позволю себе похвастаться и впасть на минуту даже в духовную гордость и скажу Вам, что это лучший, может быть, род веры. Совет, который нам кажется разумным, мы можем принять от всякого умного мужика, например. Чужая мысль поразила наш ум своей истиной. Что же за диво принять ее? Ей подчиняешься невольно и только удивляешься, как она самому не пришла на ум раньше. Но, веруя в духовный авторитет, подчиняться ему против своего разума и против вкусов, воспитанных долгими годами иной жизни, подчинять себя произвольно и насильственно, мне кажется, это настоящая вера. Конечно, — добавляет он, — то, что я говорю, не слишком смиренно. Это гордость смирения».
Слова эти, столь раздражающие наши обычные представления о вере1, могут быть дополнены и освещены тем же Паскалем, который посветил вопросу об отношении веры к подвигу много проникновенных страниц. Так, утверждает он совершенно по-леонтьевски (с. 124 и 125): «Поймите, по крайней мере, свое бессилие верить, если уж разум заставляет, а вы все-таки не можете верить, старайтесь же убедить себя не умножением доказательств в пользу Бога, а уменьшением ваших страстей. Вам хочется дойти до веры, и вы не знаете дороги; вы желаете излечить себя от неверия и просите лекарств, учитесь у тех, которые были прежде связаны, как и вы. Эти люди знают дорогу, по которой вы хотите идти, исцелились от болезни, от которой вы хотите исцелиться. Начните с того, с чего они начали, т.е. поступите совершенно так, как если бы вы верили; берите святую воду, заказывайте службы и т.д.». Чтобы кончить с вопросом о подвиге, я приведу еще страницу из «Penc<e>es»94 Паскаля, уясняющую страдательную, пассивную сторону религиозного подвига: «Правда, что трудно вступать на путь благочестия. Но эта трудность происходит не от благочестия, которое зарождается в нас, но от нечестия, которое остается еще в нас.
I Выделенная часть предложения подчеркнута карандашом.
103
28.II.1910
В.В. Бородаевский. О религиозной правде Константина Леонтьева
Если бы наши чувства не противились раскаянию, если бы наша испорченность не противостояла чистоте Бога, то в этом не было бы ничего трудного для нас. Мы терпим лишь постольку, поскольку врожденный нам порок противодействует благодати, которая выше нашей природы. Наше сердце чувствует себя растерзанным этими противоположными усилиями. Но было бы несправедливо1 приписывать это насилие Богу, который привлекает нас, а не миру, который нас удерживает. Это все равно что дитя, которого мать вырывает из рук воров: оно должно, хотя и терпит боль, любить законное и полное любви насилие той, которая дает ему свободу, а отвращение питать только к буйному и тиранистическому насилию людей, незаконно его задерживающих». Страх, послушание и подвиг вводят верующую душу в Церковь и здесь, в меру даров каждого, преобразуются в высшие начала; из религии закона вырастает религия благодати. Неколебимой пребывает эта Церковь, воздвигнутая на Петровом камне95, его же врата адовы не одолеют. Исторический Петр не может допустить маловерного сомнения в своей незыблемости; даже видя вокруг себя бушующее море, как Петр-апостол, по волнам идущий ко Христу96. Утверждающий эту Церковь утверждает и себя в своем совершенстве, укрепляет духовную связь между собой и мистическим телом Богочеловеческого всеединства.
1 В оригинале: Не было бы несправедливо.
ЗАСЕДАНИЕ 23 МАРТА 1910 г.
Н.О. Лосский
Идея бессмертия души
как проблема теории знания
Вопрос о бессмертии души рассмотрен в настоящей статье в очень узких рамках. Мы будем иметь в виду не практическую ценность этой идеи, а также не всевозможные источники ее зарождения, вроде воли к самосохранению, страха перед небытием, сновидений, явлений умерших в виде призраков и т.п. Рассмотрению будет подвергнута только теоретическая ценность этой идеи, т.е. вопрос, может ли она иметь объективное значение. При этом цель статьи заключается вовсе не в том, чтобы доказать бессмертие души, а только в том, чтобы на основании строения процессов знания определить, существует ли возможность знания о таком предмете, как бессмертие души, есть ли это предмет по самому своему понятию входящий в сферу познаваемого или нет.
Для громадного большинства, особенно современных теорий знания, идея бессмертия души не имеет объективного значения. Различные варианты эмпиризма и позитивизма отрицают познавательную ценность ее. То же самое мы встречаем и в большинстве разновидностей кантианского критицизма. Для критицизма знание, т.е. мышление не пустое, а имеющее отношение к предмету, возможно лишь в том случае, когда мы оперируем посредством понятий, сочетающихся с наглядными представлениями; но человеку, по мнению Канта,
105
23.III.1910
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
доступны только чувственные наглядные представления, имеющие пространственно-вре<менной> опыт; все же, что трансцендентно чувственному опыту, относится к области непознаваемого. Теперь ясно, какой приговор ожидает идею бессмертия души: рассуждать о бессмертии — это значит рассуждать о вечности души, т.е. о предмете, не имеющем временной формы, следовательно, непредставимом чувственно и потому находящемся вне сферы опыта, вне сферы того, что доступно знанию. Автор статьи вполне согласен с мыслью кантианцев, что знанию доступно только то, что не выходит за пределы опыта, но он принимает эту мысль лишь в более общей форме, именно не отрицая возможности нечувственного опыта наряду с чувственным*.
Так как все данное в опыте имманентно сознанию, то высказанную выше мысль можно выразить также в следующей отрицательной форме: ничто трансцендентное сознанию не может быть познано. Доводов в пользу этого тезиса приводить здесь не стоит: они общеизвестны, напр<имер>, в той форме, в какой они развиты у представителей имманентной философии (Шуппе, Шуберта-Зольдерна, Ремке)97.
Всякий, кто примыкает к этому основному положению имманентных теорий знания, вместе с тем отрицательно относится к той разновидности рационализма, которую можно назвать и н д ивидуалистическим р а ц и о н а л и з м о м, и к доводам в пользу бессмертия души, характерным для этого направления. Термином индивидуалистический рационализм мы обозначаем теории всех тех мыслителей, которые полагают, что адекватное знание о предмете может быть получено не путем опыта, а путем деятельности разума, причем эта деятельность рассматривается, как п с и х и ч е с к и й процесс, разыгрывающийся исключительно в сфере познающего индивидуума, но имеющий т р а н с ц е н д е н т н о е значение, т.е. дающий знание о предмете, находящемся
I Пропуск в стенограмме.
* Критика теории Канта и доводы в пользу возможности нечувственного опыта приведены в моей книге «Обоснование интуитивизма» 2 изд. 1908. Настоящее исследование опирается на теорию знания интуитивизма и в дальнейшем содержит в себе только краткое изложение основных положений ее, имеющих ближайшее отношение к рассматриваемой здесь проблеме.
106
ДОКЛАД
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
вне сферы сознания. Для этого направления характерны попытки доказывать бессмертие души путем умозаключений, опирающихся на будто бы прирожденные идеи разума: таково, напр<имер>, умозаключение — «всякая субстанция — вечна, душа есть субстанция, следовательно, душа вечна»; «простое неуничтожимо; душа проста, следовательно, душа неуничтожима»; «все обладающее высшею степенью ценности вечно, душа обладает высшею степенью ценности, следовательно, душа вечна» и т.п. Из таких доказательств, поскольку они ведутся в духе индивидуалистического рационализма, т.е. путем ссылки на содержание понятия субстанции, как прирожденную идею, мы узнаем разве только то, что в силу свойств своего разума мы принуждены представлять себе душу, как нечто вечное; вследствие прирожденности идеи мы не можем отделаться от нее и от субъективного чувства уверенности в том, что душа вечна; но разве в этом субъективном чувстве уверенности есть какое-либо ручательство в пользу того, что душа действительно вечна? Прирожденная идея, на которой основывается это субъективное чувство уверенности, может быть ложною, и тогда основанное на ней чувство уверенности тоже окажется ложным.
Итак, доказательство, придающее идее бессмертия души теоретическую ценность, может быть дано только в том случае, если оно осуществляется в духе имманентных теорий знания, т.е. только в том случае, если вечность души может быть предметом наблюдения или может быть установлена путем умозаключения, опирающегося вообще на наблюдение чего-либо вечного.
Стоит только предъявить такое требование, и почти все признают, что оно равносильно отрицанию возможности доказать вечность души, так как кажется несомненным, что вечность выходит за границы всякого опыта. В самом деле, скажут многие, нелепо утверждать, будто можно н а -блюдать вечность: для этого нужно было бы вечно наблюдать, что немыслимо. Довод этот на первый взгляд кажется безошибочным, а вместе с тем представляется несомненным и то, что всякая попытка доказать бессмертие души, опираясь на опыт, немыслима. Однако в основе этого рассуждения кроется смешение понятий. Устраним его, и проблема доказательства бессмертия души путем ссылки на опыт перестанет казаться неразрешимою.
107
23.III.1910
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
Начнем с того, что не только в е ч н о е бытие души, но даже и н е п р е р ы в н о е существование какого-нибудь предмета, напр<имер>, стола или дерева, между двумя последовательными восприятиями наблюдателя, для многих имманентных теорий знания есть нечто недоказуемое или даже неприемлемое. Эти теории принуждены рассматривать мир так, как если бы вещи в момент начала восприятия впервые возникали и в момент прекращения восприятия исчезали. Таково, напр<имер>, положение Юма в теории знания. Юм говорит, что ссылка на непосредственное свидетельство опыта в доказательство существования вещи вне момента восприятия невозможна: она была бы равносильна утверждению, что «чувства продолжают действовать даже после того, как всякое их действие прекратилось»*, глаз продолжает видеть вещь тогда, когда он перестал ее видеть. Вследствие прерывистого характера восприятий из опыта нельзя узнать о каком бы то ни было непрерывном существовании. Поэтому и разум не имеет материала для умозаключений о таком существовании. Между тем идея непрерывного существования вещей имеется в человеческом уме. Откуда же она возникла? Она есть продукт деятельности воображен и я , представляющего вещь существующею даже и тогда, когда мы ее не воспринимаем. Как продукт воображения, эта идея не имеет теоретической ценности, и потому у нас нет достаточных оснований признавать непрерывное существование вещей, мы имеем право утверждать только закономерную возможность восприятия вещей.
Так называемый здравый рассудок, встречаясь с такими заявлениями философов, чувствует себя сбитым с толку и одураченным. Убеждение в том, что, напр<имер>, пока я спал прошлою ночью, земля существовала, и это существование не сводилось только к возможности моего восприятия земли, а было существованием с а-м о й земли, каждому человеку представляется несомненным знанием, а вовсе не продуктом воображения. Отказ философа считать такие утверждения знанием производит впечатление скандала в философии, подобно тому как для здравого рассудка представляется скандалом в философии столь часто встречающееся в имманентных
* Юм <Давид>. Трактат о человеческой природе. Кн. I. Перев. С. Церетели. С. 177.
108
ДОКЛАД
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
теориях знания утверждение, что существование внешнего мира недоказуемо, а также еще чаще встречающееся положение, что существование материи, как чего-то непсихического, не может быть установлено.
В данном случае мы стоим на стороне обыденного рассудка и полагаем, что перечисленные утверждения философов являются результатом последовательного развития основного ошибочного допущения; последовательность выводов из основных предположений весьма почтенна, но печально то, что основная посылка содержит в себе ошибку. — Устранение ошибочной предпосылки, которую мы имеем в виду, и к рассмотрению которой вскоре перейдем, сопутствуется также и устранением выводов из нее, будто невозможно доказать существование внешнего мира, материи, а также вещей и событий за пределами момента восприятия. Здравому рассудку, без сомнения, понравятся эти обещания; заметим, однако, что устранение той же предпосылки послужит для нас средством доказать, что вечное бытие может быть предметом наблюдения. Таким образом, мы связываем судьбу доказательств существования внешнего мира, материи и вещей, независимых от восприятия, с судьбою доказательства возможности знания о таких предметах, как бессмертная душа, что вряд ли понравится здравому рассудку.
Основная ложная предпосылка, затрудняющая решение проблем теории знания, может быть вскрыта путем анализа процесса развития теорий знания в новой философии. В сжатом виде результаты этого анализа изложены нами в статье «Гносеологический индивидуализм в новой философии и преодоление его в новейшей философии»*. Здесь мы ограничимся тем, что формулируем эту предпосылку. Она заключается в предположении, будто имманентный сознанию состав знания целиком складывается из п с и х и ч е с к и х состояний познающего и н д и в и д у у м а. Отсюда вытекает, что индивидуум может иметь достоверное знание только о с в о и х состояниях (недоказуемость существования внешнего мира), только о п с и х и ч е с к и х явлениях (недоказуемость существования материи) и только о воз-
* Вопр<осы> фил<ософии> и психол<огии>. 1907. Кн. 88. Напечатано также в виде приложения к моей книге «Обоснование интуитивизма» 2 изд.
109
23.III.1910
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
можных восприятиях, но не о существовании вещей з а пределами м о м е н т а в о с п р и я т и я. Эти положения так глубоко укоренились в новой философии, что в развитии теорий знания XIX и XX вв. замечается следующее своеобразное явление: теории знания XIX в. постепенно освобождаются от ложной, указанной нами предпосылки, но в то же время продолжают сохранять в своем составе некоторые выводы, вытекающие из нее, хотя без нее они утрачивают всякое основание.
На деле имманентный состав знания (совокупность содержаний сознания, образующих знание) вовсе не так прост и однороден. В нем следует различать а к т знания, п р е д м е т знания и с о д е р ж а н и е знания. В подробном виде этот анализ произведен нами в книге «Обоснование интуитивизма»*. Результаты этого анализа мы изложим здесь вкратце. При этом цель, к которой мы стремимся, заключается в том, чтобы показать, что перечисленные выше затруднения в теории знания обусловлены неразличением акта знания, с одной стороны, и предмета и содержания знания, с другой стороны, вследствие чего возникает о ш и б о ч н о е п е р е-н е с е н и е с в о й с т в а к т а з н а н и я н а п р е дм е т и с о д е р ж а н и е з н а н и я.
Если, воспринимая колебание маятника, я высказываю суждение «маятник колеблется», то предметом знания служит э т о т наблюдаемый маятник, н а л и ч н ы й в восприятии; с о д е р ж а н и е м знания служит колебание маятника, также наличное в восприятии**, а а к т знания складывается из моего в н и м а н и я к этому предмету и его движению и из моей деятельности сопоставления, т.е. с р а в н и в а н и я, благодаря которой я различаю, что это движение, а не покой. Знание возможно лишь в том случае, когда есть налицо все три указанные составные части его — акт знания, с одной стороны, предмет и содержание знания, с другой стороны, — но это не мешает им так резко о т л и ч а т ь с я друг от друга, что акт знания может быть совершенно н е с о и з м е р и м ы м с предметом знания. Так, напр<имер>, акт знания (внимание и сравнивание) есть всегда состояние познающего индивидуума. Наоборот, предмет и содержание зна-
* В «Вопр<осах> фил<ософии> и психол<огии>» было напечатано в 1904-1905 гг. под заглавием «Обоснование мистического эмпиризма». ** Обоснование интуитивизма. 2 изд. Стр. 61, 201.
110
ДОКЛАД
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
ния могут принадлежать к т р а н с с у б ъ е к т и в н о м у миру, и нет никаких логических оснований утверждать, будто предмет, на который направлено мое внимание, непременно должен быть моим состоянием (напр<имер>, моим чувством или моею страстью). Далее, акт знания (внимания и сравнивание) есть всегда п с и х и ч е с к о е состояние, а предмет и содержание могут быть чем-либо н е п с и х и ч е с к и м, напр<имер>, предметом знания может быть материальный процесс (колебание маятника) или идея (напр<имер>, идея гармонии), и нет никаких логических оснований утверждать, будто внимание может быть направлено только на психические явления. Высказанные нами положения, несмотря на отсутствие в них противоречий, кажутся странными и неприемлемыми только вследствие того, что всякое знание содержит в себе вместе и акт, и предмет, и содержание; поэтому нам трудно мысленно отделить эти части; отсюда возникает иллюзия, будто они составляют неразрывное целое, и будто свойства акта знания должны принадлежать также предмету и содержанию знания, напр<имер>, будто предмет знания должен так же, как и акт (внимание и сравнивание), входить в состав познающего индивидуума и быть его психическим состоянием. Стоит только произвести в имманентном составе знания ясное различение акта знания, с одной стороны, предмета и содержания знания, с другой, и тогда становится совершенно очевидным, что указанные выше утверждения принадлежат к числу предрассудков; мало того, тогда становится очевидным, что даже и временные определения, принадлежащие акту знания, могут вовсе не принадлежать предмету и содержанию знания, и тем не менее это вовсе не помешает предмету и содержанию знания быть имманентными знанию, т.е. быть непосредственно наблюдаемыми. Так, напр<имер>, акт знания совершается в н а с т о я щ и й м о м е н т, а предметом знания может быть событие, совершающееся в д р у г о й м о м е н т времени, напр<имер>, в прошлом или будущем; акт знания может длиться секунду, а предметом его может быть процесс, длящийся минуту, час, год, века. Способностью обозревать в один миг процессы, занимающие продолжительное время, человек пользуется на каждом шагу, и потому не стоит приводить примеры проявления ее. Обратим только внимание на то, что
111
23.III.1910
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
без помощи этой способности невозможно было бы восприятие д в и ж е н и я.
Освободиться от наклонности переносить временные свойства акта знания на предмет знания очень трудно. Чтобы облегчить мысленное обособление акта знания от предмета, нужно иллюстрировать неправомерность таких перенесений с помощью самых разнообразных примеров. С этою целью рассмотрим различие между актом знания и предметом со стороны пространственных свойств их. Акт восприятия, т.е. деятельность внимания и сравнивания, без сомнения, непространственен, но это нисколько не мешает тому, чтобы предмет, на который направлено внимание, был протяженным. Насколько нелепо было бы утверждение, что при восприятии Казбека акт внимания должен быть величиною с Казбек, настолько же неправильно и обратное утверждение, будто Казбек, как содержание представления, непротяжен. Мысль, будто представления о протяженных вещах непротяженны, заставившая философов XIX в. много ломать голову над неразрешимым вопросом, каким образом из непротяженных психических состояний познающего субъекта получается знание о протяженных вещах, есть плод недоразумения, именно результат п е р е н е с е н и я с в о й с т в а к т а з н а н и я (внимания и сравнивания) н а п р е д м е т и с о д е р ж а н и е з н а н и я.
Из того, что временные свойства акта знания вовсе не обязательны для предмета знания, вытекает множество чрезвычайно важных следствий, из которых мы приведем здесь только два. Во-первых, акт восприятия может дать знание о существовании вещей в н е момента восприятия, и потому прерывистость восприятия вовсе не есть основание для утверждения прерывистости существования вещей или для утверждения, будто существование вещей за пределами момента восприятия непознаваемо. Во-вторых, разнородность между предметом и актом знания может достигать еще большей степени: предмет знания может с о в с е м н е о б л а д а т ь в р е м е н н ы м и с в о й с т в а м и, он может принадлежать к сфере б ы т и я, а не б ы в а н и я, т.е. стоять вне потока изменений, как нечто безвременное, и тем не менее на нем может быть сосредоточено внимание познающего субъекта; иными словами, нет препятствий для того, чтобы предметом
112
ДОКЛАД
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
наблюдения было вечное (безвременное) бытие: а к т с оз е р ц а н и я м о ж е т д л и т ь с я о д н у с е к у н д у, но созерцаемое мо же т б ыт ь в еч н ым.
Нетрудно теперь применить сказанное к вопросу опознании бессмертия души. Без сомнения, бессмертие не есть какое-нибудь весьма длительное существование, вроде существования египетских пирамид или альпийских гор; говорить о бессмертии это значит иметь в виду б е з в р е м е н н о с т ь, вечность. Следовательно, о бессмертии души знает тот, кто наблюдает в своей душевной жизни начало, стоящее вне течения событий душевной жизни, но в то же время сопринадлежное с ними так, что без него эти события не могут существовать. Нетрудно найти тот пункт, где следует искать этого начала: все события, совершающиеся в душевной жизни, радость, печаль, хотения, напряжения внимания и т.п., испытываются, как принадлежащие о д н о м у и т о м у ж е я. Решение вопроса о вечности или тленности человеческого духа должно быть достигнуто путем усовершенствования наблюдения над я. В самом деле, допустим, что какой-либо человек наблюдает свое я, как несомненно стоящее вне потока событий, как бытие, абсолютно несравнимое с событиями радости, печали, хотения и т.п., как бытие, в применении к которому вопрос «сколько времени оно будет длиться» так же нелеп, как нелеп вопрос «какого цвета справедливость — зеленая она или голубая». Для человека, так наблюдающего свое я, вечность я несомненна и притом не как умозаключение или догадка, а как н а б л ю д а ем ы й ф а к т, т.е. как нечто, установленное путем такого же непосредственного различения данных опыта, путем какого устанавливается суждение «этот лист желтый, а тот зеленый».
Без сомнения, многие подумают, что если бы ответ на вопрос о бессмертии души мог быть получен таким простым путем, то все люди давно уже определенно решили бы эту проблему в положительную или отрицательную сторону.
В ответ на это покажем, что путь, намеченный нами, не так прост, как кажется на первый взгляд. Нужно чрезвычайное напряжение способности отвлечения и особое направление внимания, чтобы наблюдать я с тою отчетли-
113
23.III.1910
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
востью, какая требуется для непосредственного решения вопроса о вечности души. Цитата из Юма пояснит, в чем дело. Исследуя вопрос о тождестве личности, Юм говорит: «Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в то, что называю своим я, я всегда наталкиваюсь на ту или иную единичную перцепцию — тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия. Я никак не могу поймать свое я отдельно от перцепции и никак не могу подметить ничего, кроме какой-нибудь перцепции»*.
Действительно, наблюдая сферу сознания, в ней легче всего заметить сменяющиеся свет, тень, любовь, ненависть и т.п. Кто сосредоточит свое внимание только на этой стороне сознания, тот лишь ее и опишет. Но обратим теперь внимание на следующее обстоятельство: свет, тень, любовь, ненависть возникают в сознании не сами по себе, а в такой форме, которая выражается словами «я вижу свет», «я люблю», «я страдаю»; сосредоточим внимание только на той стороне сознания, которая обозначается словом я, и перед нами встанет объект, которого не заметил Юм. Что же из того, что этот объект существует всегда вместе с единичными перцепциями? Это не мешает ему быть, во-первых, реальным и, во-вторых, резко отличаться от событий.
Здесь, как и во множестве других случаев, оправдывается правило, что для точного исследования предмета необходимо брать его в чистом виде. Очень часто окончательное решение вопроса достигается сравнительно просто, путем прямого наблюдения, но для того, чтобы произвести его, необходимо получить сначала предмет в чистом виде, и главный труд заключается в отделении от него посторонних примесей; так, физик никогда не определит удельного веса вещества, если не устранит из него посторонних примесей, и эта операция требует иногда большого искусства. Точно так же при познании я затруднения и неточности возникают вследствие того, что наблюдатель сосредотачивает свое внимание на конгломерате из я и событий, связанных с ним, и потому переносит на я временный характер событий; при этом даже и те, кто догадывается о вечности души, мыслят самое понятие
* Юм <Давид>. Трактат о человеческой природе. Кн. I. Перев. С. Церетели. С. 232.
114
ДОКЛАД
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
вечности неточно, именно смешивают в е ч н о с т ь с чрезвычайною д л и т е л ь н о с т ь ю*.
Насколько велика трудность очищения я от посторонних примесей, видно из следующего соображения. Имманентный состав сознания, согласно теории интуитивизма, чрезвычайно сложен; в него входят: 1) я, 2) психические состояния, составляющие жизнь я, и 3) наблюдаемый транссубъективный мир, напр<имер>, материальные явления. Есть лица, обращающие внимание в этом сложном целом только на материальные процессы и потому признающие существование только материального мира. Есть лица, усматривающие, что кроме материальных процессов существуют также психические явления, хотения, чувства и т.п., резко отличающиеся, напр<имер>, от процессов движения; для этих лиц наличность двух toto genere1 различных категорий явлений есть настолько несомненный и очевидный факт, что они с недоумением прислушиваются к рассуждениям тех материалистов, которые не замечают этой разнородности событий. Однако зачастую эти же самые лица, подобно Юму, не усматривают существования я, как начала, отличного от психических процессов, и пытаются построить всю душевную жизнь исключительно из психических с о б ы т и й. Их уверенность в своей правоте значительно поколебалась бы, если бы они обратили внимание на то, что есть лица, для которых существование я, как начала, отличного от событий, есть несомненный, грубо осязательный факт, и которые поэтому, беседуя с лицами, пытающимися сложить я из психических событий, относятся к ним с таким же недоумением, с каким они сами относятся к материалистам, отрицающим существование психической жизни.
Автор статьи смиренно сознается в том, что он не обладает в достаточной мере таким искусством наблюдения над я. В настоящей статье он задается только целью показать, что строение процессов знания не исключает возможности наблюдения таких объектов, и что должны существовать люди с особенно развитою способностью такого наблюдения. — Какие это люди? Это те, о которых говорит Платон в VII кн. своего «Государства», это — люди, вышедшие из пещеры, где они наблюдали только
* Неправильность такого понимания вечности отмечена Спинозою.
Этика V, положение XXXIV.
I Здесь: единого происхождения (лат.).
115
23.III.1910
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
тени вещей, и увидевшие при солнечном освещении подлинные вещи и даже решившиеся взглянуть на само солнце. Такие люди не непременно должны быть философами; проблема бессмертия души волнует не столько философов, сколько религиозных людей, и мы не сомневаемся, что в мировой литературе, поскольку в ней выразился религиозный опыт человечества, должны найтись красноречивые описания наблюдений над душевною жизнью в духе теории интуитивизма, утверждающей возможность наблюдать вечное.
Нам могут возразить, что вечность я, как идеальное вневременное бытие, еще не есть бессмертие. Многие люди, напр<имер>, допускающие перевоплощение, разумеют под бессмертием бесконечное а к т у а л ь н о е существование души, т.е. обнаружение ее в виде бесконечного ряда с о б ы т и й. Без сомнения, сторонники такого понимания бессмертия станут утверждать, что только актуальное существование души содержит в себе к о н к р е т н у ю полноту бытия и только допущение такого бессмертия удовлетворяет чаяниям человеческого духа, между тем как вечное я, обособленное от событий, развертывающихся во времени, имеет ужасающе мертвенный характер застывшей, бедной по содержанию а б с т р а к ц и и.
Однако такие замечания основываются на недоразумении, возникающем вследствие перенесения представлений, заимствованных из сферы временной жизни, на безвременный мир. В самом деле, рассуждать так — это значит представлять себе идеальное бытие я наподобие вечно пребывающей синевы неба или в виде существования пустой, лишенной содержания простой т о ч к и, которую мы имеем в виду, когда, отвлекаясь от пестроты событий, указываем на о д н о и т о ж е я, которому они принадлежат. Такие представления о вневременном я, конечно, неправильны. Надобно помнить, что временной ряд событий и безвременное бытие суть два глубоко разнородных мира, и человек, хотя он стоит одною ногою в одном из этих миров, а другою — в другом, все же развивает в себе умение отчетливо наблюдать только один из этих миров, именно временный; поэтому, когда речь идет о вечном я, мы умеем только у к а з а т ь его н а л и ч н о с т ь, но не рассказать о его безвременном содержании; между тем
116
ДОКЛАД
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
это содержание должно существовать и быть гораздо более богатым, чем временная жизнь; в самом деле, представлять себе вечное я, как простую точку, и в то же время утверждать, что события составляют принадлежность такого я, это значило бы развивать совершенно непонятное учение: события могут быть сопринадлежными с одним и тем же вечным я только в том случае, если оно есть, по крайней мере отчасти, условие возникновения их и, следовательно, обладает чрезвычайно многосторонним содержанием. Вечность этого бытия указывает на его гармоническое отношение к остальному содержанию мира и на его многообъемлющий характер в противоположность временному ряду событий, который состоит из явлений, взаимно и с к л ю ч а ю щ и х друг друга и имеющих малообъемлющий характер. Весьма вероятно поэтому, что если бы мы обладали совершенным знанием о вечном бытии, мы впервые в нем нашли бы конкретную полноту,ато существование, которое теперь считается конкретным, оказалось бы бесконечно малою дробью, о т в л е ч е н и е м от этой конкретной полноты. Поэтому понятно, что даже и те, кто склонны допускать актуальное существование души после смерти, напр<имер>, в виде ряда перевоплощений, обыкновенно представляют себе продолжительность этого ряда соответствующею степени несовершенства души, и жизнь души, освобожденной от этого ряда, изображают, как абсолютно иное бытие (напр<имер>, как созерцание идей или как жизнь в Боге), вряд ли требующее временных форм.
Если же кто-либо стал бы утверждать, что все же только актуальное существование души соответствует его понятию бессмертия, то в ответ на это заметим, что вечность я, т.е. идеальное бытие его, есть важнейшее из положительных условий, необходимых для допущения бессмертия, как актуального существования, и поэтому также и с этой точки зрения на бессмертие главная часть задачи выполнена, если доказана вечность я.
В заключение необходимо указать на один чрезвычайно важный вопрос, остающийся неразрешенным, хотя бы указанным выше путем и была установлена вечность я. Пока индивидуум ограничивается наблюдением только над с в о е ю душевною жизнью, он лишен возможности
117
23.III.1910
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
решить вопрос, какое я было предметом его наблюдения, — индивидуальное, родовое (я человечества) или даже, может быть, мировое, и, следовательно, не знает, какое бессмертие установлено им — индивидуальное или родовое. В самом деле, можно допустить, что вечное я, наблюдаемое интуитивно, есть родовое я человечества. В таком случае жизнь индивидуума могла бы оказаться только ограниченным во времени рядом событий и после своего завершения имела бы в жизни человечества лишь такое же значение, какое в жизни индивидуума имеет, напр<имер>, поездка на Кавказ, именно она сохранялась бы в памяти родового я и имела бы влияние лишь постольку, поскольку родовое я возвращалось бы к ней в акте воспоминания. В таком случае бессмертия, как вечной р е -альности индивидуума, не было бы, а можно было бы допускать только родовое бессмертие, как вечную реальность высшего я, объемлющего все человеческие жизни. Без сомнения, такое бессмертие не может соответствовать чаяниям индивидуума, и потому тем более необходимо установить, какие нужно сделать дополнительные исследования, чтобы путем непосредственного наблюдения над я установить, есть ли вечное я — я индивидуума или я родовое. Самих этих исследований мы не будем производить в настоящей статье, а ограничимся лишь тем, что укажем, в чем они заключаются. Очевидно, для решения вопроса необходимо наблюдать не только свое, но и другие я, и на этом основании установить или отвергнуть множественность вечных я. Ограничиться только указанием на этот путь без рассмотрения осуществимости его приходится потому, что для этой цели необходимы были бы особые предварительные исследования. В самом деле, проблема познания чужого одушевления и чужого я принадлежит к числу труднейших в философии, и потому необходимо сделать ее предметом специального исследования раньше, чем ответить в духе интуитивизма на поставленный выше вопрос.
Из газетных отчетов
В Религиозно-философском обществе
23 марта состоялся доклад Н.О. Лосского на тему — «Идея бессмертия души как проблема теории знания».
Цель доклада, по словам автора, — не доказательство бессмертия души, а далеко скромнее. Существует ли возможность знания о душе? И может ли сам вопрос о душе иметь объективное значение в построении человеческого знания? Доселе господствующее течение в философии, в вопросе о познаваемом, держалось точки зрения Канта. Но с этой точки зрения объективное знание о душе недоступно; человек знает лишь свои переживания в перспективе пространственных и временных форм. Анализ имманентного содержания опыта, единственного достоверного знания, показывал, что знания о бытии, субстанции, ниоткуда нельзя было вывести. Откуда мысль о непреложном существовании? — спрашивал, например, Юм. Он отвечал на этот вопрос: от воображения. Очевидно, в старой теории познания заключается ошибка. По ней можно заключать лишь
с достоверностью, что вещи для мыслящего субъекта существуют лишь, пока они сознаются мыслящим субъектом. Но когда я спал, существовала ли земля?.. Основную ошибку «индивидуалистического рационализма», как называет эту теорию докладчик, надо видеть в том, что здесь сливается в одно целое весь состав суждения и весь состав восприятия. На самом деле имманентный состав знания не так слит в одно целое.
Докладчик предлагает свой анализ. Он различает а) акт знания, б) предмет знания и в) содержание знания. Акт знания всегда имеет чисто психический состав (деятельность внимания и различения). От него резко отличаются предмет и содержание знания. Напр<имер>, по моменту времени: акт может занимать одну секунду. Между тем как предмет и содержание, напр<имер>, какое-нибудь историческое событие, требуют для себя годы. Или наблюдение горы «Казбек». Акт безпро-странствен, между тем гора «Казбек»... Или взять такой предмет зна-
119
ИЗ ГАЗЕТ
Н.О. Лосский. Идея бессмертия души как проблема теории знания
ния, как вечность. Таким же предположением может быть для познающего субъекта и его «я». Итак, если чисто психический состав имеет только самый акт знания, то предмет и содержание говорят о транссубъективном, иначе дают знание об объективном.
Переходя, в частности, к идее бессмертия души, докладчик говорит, что его теория имеет основание для установления вечности души, вечности «я». Но другой вопрос, какое это «я». Индивидуальное, рядовое или даже мировое. Вопрос об индивидуальном (даже не о личном) бессмертии предполагает уже знание о чужом «я». И один этот последний вопрос (о чужом «я») есть труднейшая проблема в философии.
В прениях приняли участие С.И. Гессен, С.А. Алексеев, С.Л. Франк, Б.Г. Столпнер и Н.Х. Херсонский. Между прочим, С.И. Гессен указал, что Н.О. Лосский в первой гносеологической части своего доклада делает выводы большие, чем следует. Так, из содержания сознания он, очевидно, заключает к «бытию» (транссубъективное). Тогда как, становясь даже на его точку зрения, в анализе можно заключить лишь к «нечто», напр<и-мер>, к «смыслу», «ценности» и т. п. А если так, то 2-я часть доклада
о доказательстве бессмертия души остается висеть в воздухе.
С.А. Алексеев не согласен с делением имманентного содержания знания на 3 части, как у докладчика. И в содержании знания есть чисто психические элементы, напр<имер>, восприятие; так, в содержании моего опытного знания о качающемся маятнике имеется несомненно и восприятие качающегося маятника. С.А. Алексеев рекомендует поэтому 2 части, вместо 3-х: акт знания и предмет знания.
Докладчик дал подробные объяснения по существу всех возражений оппонентов. Теория познания, — сказал Н.О. Лосский в заключение, — строится медленно, подобно геологическим преобразованиям и наслоениям. Старые предрассудки ошибочных теорий падают понемногу. А предрассудки эти упорны и претендуют на нечто незыблемое. Конечно, теория познания не дает новых и лучших форм знания. В этом смысле все остается по-старому, как сказал Столпнер. И если бы об этом шел спор, то оппонент был бы прав: спор шел бы о словах. Но теория объясняет нам познание... А это значит многое.
Зал был переполнен слушателями. Особенно много было учащихся обоего пола. Собрание затянулось за полночь.
Н. О.
ЗАСЕДАНИЕ 29 МАРТА 1910 г.
Н.А. Бердяев
Утонченная Фиваида
(Религиозная драма Гюисманса) I
Самое благородное явление, рожденное на почве декадентства французского, — утонченного упадочничества, слишком мало вызывает к себе внимания и на родине, и у нас, и ждет еще справедливой оценки. Я говорю о Гюисмансе98, так мало еще оцененном, так мало популярном даже в то время, когда «декадентская» литература стала слишком популярной. Гюисманс стоит в стороне от большого литературного потока. Слишком многим он покажется скучным писателем, в нем мало занимательного, мало того, что могло бы стать модным. Нужен особый вкус, чтобы полюбить Гюисманса, чтобы плениться его романами-исследованиями, чтобы почувствовать упоительность в самой их скучности. Романы Гёте99 тоже скучны, и в них есть особая прелесть. Даже крупные, очень талантливые модернистские писатели получили налет пошлости от популяризации, от модных увлечений ими. К Гюисмансу не пристала никакая пошлость моды и популярности. Он остался серьезным, утонченным до муки, настоящим мучеником упадочности. В нем нет и следов вульгарной пошлости, легкомысленной поверхностности и буржуазности модернистского духа, модного модернистского искусства и стиля (бесстильного). Его благородная душа, душа средневековая и католическая, в глубине своей неизменно благочестивая, но слабая и безвольная, слишком исключительно
121
29.111.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
чувственная, была изъязвлена оскорбительностью современной культуры, пошлостью современной Франции, уродством жизни, буржуазным духом эпохи. Все, что любила эта душа, все то умирало в современности, она не находила уже ни великого искусства, ни великой мистики былого. Гюисмансу близки только такие люди, как Барбе Д'Оревильи, Бодлер, Верлен, Маларме, Вилье де Лиль-Адан. Все кажется ему в окружающей жизни чужим, далеким, уродливым до боли. Он прежде всего человек глубоко оскорбленный, изъязвленный, раненный тем «миром», в котором призван жить и которого не принимает. В. Иванов верно сказал про Гюисманса, что с него «содрана кожа», что «воспринимающий внешние раздражения всей поверхностью своих обнаженных нервов, затравленный укусами впечатлений, пронзенный стрелами внешних чувств, он естественно бросился, спасаясь от погони, в открывшийся ему мистический мир, но и в прикосновениях к нему обречен был найти еще более утонченную муку и сладость чувственного»*. Утонченная чувственность, оторванная от воли, довела Гюисманса до крайней упадочности. Благородство же его природы, серьезность его и католические истоки духа не допустили его превратиться в декадента пошлого, в самодовольного скептика, охранили в нем богочувствие и возвратили его к вере. Гюисманс стал мучеником декадентства, как бы новым пустынножителем. Я видел фотографию Гюис-манса. Он стоит в своей комнате, прислоненный к стене, над ним Распятие. И сам он оставляет такое впечатление, точно он сораспялся Христу, пригвожден. Лицо такое тонкое, благородное, серьезное и страдальческое. Я слышал рассказ человека, который часто видел Гюисманса в церкви молящимся: он необыкновенно молился, этот декадент, автор ультра-упадочнического романа «A rebo-urs» и сатанистского романа «La bas». Последние годы своей жизни он был oblat, т.е. почти монахом. Мне передалось личное впечатление от Гюисманса, тронул меня его образ, и я сильнее еще почувствовал его душу. Нелегко ему далась жизнь. Этот человек утонченной чувственности не мог жить мимолетными ощущениями и не мог прийти к самодовольству. Декадентство было для него мученическим опытом. Решительно нужно при-
* См.: В. Иванов «По звездам». С. 295.
122
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
знать, что Гюисманс — самый большой и серьезный писатель Франции последней эпохи*. По сравнению с ним как не тонок, самодоволен в своем скептицизме, поверхностен популярный Анатоль Франс100, этот излюбленный писатель современной Франции, или Реми де Гурмон101, излюбленный более изысканными кругами.
Гюисманс вышел из натуралистической школы Золя, и эта печать натурализма осталась на нем всю жизнь. Слишком истонченный, рафинированный натурализм в дальнейшем своем развитии переходит в декадентство. Натуралистическая чувственность истончается до чувственности декадентской. Чувственность сексуальную, чувственность красок, звуков и запахов, все чувственное восприятие вселенной сначала Гюисманс берет натуралистически, потом декадентски, наконец, мистически. Гюисманс показывает, что углубленная и утонченная чувственность ведет от натурализма к мистицизму. Человек, отдавшийся чувственному миру, если он тонок и глубок, приходит к кризису чувственности, очень знаменательному, переводящему уже за грани чувственного мира. Натурализм есть чувственность недостаточно глубокая и тонкая, воспринимающая лишь поверхность. В глубине мира чувственного Гюисманс открывает мистическое. Все его писания — важные документы о глубочайшей и тончайшей мистике чувственного, документы, опровергающие натурализм. Но в известном смысле реалистом Гюисманс остался навсегда, реалистическая манера осталась и в его католических книгах. Реализм не мешал ведь Бальзаку написать чудесный мистический роман «Seraphita», реализм Бальзака не мешал ему быть мистиком и по-своему религиозным**.
В предисловии к своему известному декадентскому роману, «A rebours», написанному через двадцать лет после его появления, Гюисманс многое объясняет в своем развитии. Книга эта, на которой и основана его декадентская репутация, была встречена шумным негодованием и непониманием. Золя обвинил Гюисманса в измене натурализму и не понял, куда он идет, но верно почуял, что происходит что-то неладное. Понял истинный смысл
* Рядом с Гюисмансом может быть поставлен столь непохожий на него Вилье де Лиль-Адан, а из предшествующих Барбе д'Оревильи. ** К Бальзаку, величайшему писателю Франции XIX в., еще вернутся и оценят его глубже.
123
29.111.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
книги Гюисманса только замечательный писатель католического духа Barbey D'Aurevilly, который писал в 1884 году: «после такой книги автору ничего не остается, кроме выбора между пистолетом и подножьем Креста». Вся последующая литературная деятельность Гюисманса говорит о том, что он выбрал подножье Креста, и что диагноз и прогноз был верно поставлен. В «A rebours» Гюисманс дошел до предела, до безысходности. Дальше уже начинается чудесное, натуральный процесс заканчивается. Книги Гюисманса — не романы, ни в старом, ни в новом смысле этого слова. В них нет старой романической фабулы, нет и нового импрессионизма. Все, что писал Гюис-манс, — лишь история его одинокой души, его мучений и обращений, и только. Все герои Гюисманса — он сам в разные периоды его жизни, и, кроме этого единственного героя, никаких действующих лиц нет. Так никто еще не писал, как Гюисманс, никто так не углублял истории души, не утончал ее интимной чувственности. Свою автобиографию, почти исповедь, рассказал Гюисманс так искренне, без всякой рисовки, так просто, как никто. Иным покажется скучной манера Гюисманса. Пусть читают более занимательных писателей. Но хвала тому, кто своей историей одинокой души обострил дилемму — «пистолет или подножье Креста» и пришел к подножью Креста через муки декадентства. В следующем своем замечательном романе «La bas» Гюисманс исследует современный сатанизм в связи с сатанизмом средневековым, описывает черную мессу; но там уже чувствуется под сатанистскими разговорами и экспериментами его благочестивая католическая душа, чуждая активно-волевого демонизма. В «En route», — самой интересной книге Гюисманса, он описывает переход одинокой души к католичеству. А последние его книги «La Cathedrale», «L'Oblat», «Sainte Lydwine de Schiedam» — уже настоящие католические книги. Отрывки из Гюисманса собраны в книгу «Pages catholiques», которая рекомендуется католическим духовенством. Гюисманс замечателен как исследователь католического культа и католической мистики, книги его наполнены глубокими мыслями о готике, о литургике, о примитивах, о мистических книгах и ценными замечаниями по истории искусства и литературы. Гюисманс — настоящий ученый. Его не интересует вопрос о том, «повинен ли в адюльтере господин такой-то
124
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
с госпожой такой-то», к чему, по его мнению, свелась вся почти французская литература. Он так серьезен, так тонок, так много мучился. Он слишком пессимист, слишком внимательно читал книгу Иова, Экклезиаст, «Подражание Христу», Шопенгауэра, и почуял суету и боль мира.
«A rebours» имеет дурную декадентскую репутацию. Но это замечательная, единственная в своем роде книга. Des Esseintes, герой «A rebours», его психология и странная жизнь есть единственный во всей новой литературе опыт изобразить мученика декадентства, настоящего героя упадочности. Des Esseintes — п у с т ы н н о ж и т е л ь д е к а д е н т с т в а, ушедший от мира, которого не может принять, с которым не хочет идти ни на какие компромиссы. Этот новый пустынножитель создает себе иной мир, ни в чем не похожий на низкую современную действительность, отдается ему с готовностью пожертвовать своей жизнью. У христианских пустынножителей был реальный мир, во имя которого они отрицали этот мир. У пустынножителя декадентского есть лишь мир искусственный, выдуманный, не обладающий реальностью. Но в отрицании действительности и в преданности своей фантазии сказываются черты почти героические. Он — фанатик. Изображение мученичества и пустынножительства современного упадочного человека — главная заслуга Гюис-манса, кроме него никто на это не дерзал. Оскар Уайльд был мучеником декадентства в жизни (не в литературном творчестве), но мученичество его было порождено преследованиями извне. У Гюисманса все шло изнутри. Des Esseintes (псевдоним самого Гюисманса) постепенно потерял вкус ко всем мирским благам, к современным людям, к современной литературе, к современному быту, ко всей жизни современного великого города. Все его оскорбляло и ранило. Восприимчивость его притупилась, он истощен, обессилен. В нем видны черты упадочной утонченности, родственные латинскому декадансу. В нем есть что-то бескровное, призрачное, чувственность его почти уже бесплотна. Его тянет в «утонченную Фиваиду», в пустыню для эстетов и декадентов. Постепенно уходит он от мира, уединяется, окружает себя иным миром любимых книг, произведений искусства, запахов, звуков, создает себе искусственную чувственную обстановку, иллюзию иного
125
29.111.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
мира, мира родного и близкого. Des Esseintes грозит гибель, доктор требует, чтоб он вернулся к обыкновенной здоровой жизни, но он не хочет идти ни на какие компромиссы с ненавистной действительностью. Ему не к кому и не к чему возвращаться. Литературные круги давно ему опротивели, в этом мире все стало ему чуждо. Буржуазия ему ненавистна, аристократия выродилась. Только в среде католического духовенства может Des Esseintes еще надеяться найти общение, подходящее к его вкусам. Действительность современного Парижа так ужасает и отвращает его, что слаще ему задыхаться и рисковать жизнью в экзотически чувственной атмосфере созданных им искусственных запахов, чем жить с современными людьми и отдаваться их интересам.
«A rebours» — настоящее ученое исследование, книга эта полна тончайшими замечаниями по истории литературы, по истории искусства и мистики. Когда Des Esseintes уходит от мира действительного в мир любимых изысканных книг, подобранных с такой любовью и знанием, Гюисманс дает целое исследование о латинском декадансе. Когда этот пустынножитель уходит в мир запахов или цветов, Гюисманс дает настоящее исследование по мистике запахов и цветов. Des Esseintes доходит до отчаяния, он замечает, что «рассуждения пессимизма бессильны помочь ему, что лишь невозможная вера в будущую жизнь одна только могла бы успокоить его». Книга заканчивается словами: «Господь, будь милостив к христианину, который сомневается, к маловеру, который хочет верить, к каторжнику жизни, который пустился в путь один, в ночи, под небом, которое не освещается уже утешительными маяками древней надежды».
Роман «La bas» создал Гюисмансу репутацию сатани-ста. К его переходу в католичество отнеслись подозрительно, потому что в «La bas» он слишком перемешал сатанизм и католичество, слишком кощунственно описал черную мессу. Но только отсутствие психологического чутья могло привести к подозрению, что у Гюисманса есть сатанинский уклон воли. Гюисманс никогда не мог быть сатанистом, не мог отдаться сатанизму даже тогда, когда был так занят этим явлением в «La bas», книге очень
126
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
интересной и поучительной. Его благочестивая католическая душа чувствуется в «La bas» так же, как и в последующих католических романах.
Дюрталь, главный псевдоним Гюисманса, очень интересуется сатанизмом, он предпринял исследование о средневековом сатанизме, поражен образом средневекового сатаниста Gilles de Rais и ищет следов сатанизма в современной Франции. К тайнам современного сатанизма он приобщается через одну женщину, с которой у него был кратковременный, но мучительный роман. Женщина эта оставляет впечатление жуткое, это — одержимая сатанинским сладострастием, она практикует католическую религию и, вместе с тем, через одного католического свя-щенника-сатаниста, участвует в черной мессе. У Дюрталя женщина эта очень скоро вызывает чувство отвращения и ужаса, и он бежит от нее. Он раз всего присутствует при совершении черной мессы, но внутренне не участвует в ней, с ужасом и негодованием уходит. В «La bas» Гюис-манс изобличает ничтожество и жалкость современного сатанизма, отсутствие в нем силы и фантазии. Все эти черные мессы — отвратительная и скучная мерзость. Искание возвышенного, сильного влекущего сатанизма — жалкий самообман. Сатанизмом пленяются легче всего истерические женщины, это они бьются в конвульсиях во время совершения черной мессы. Пусть читают «La bas» имеющие вкус к сатанизму, этот вкус убивает Гюисманс. У Гюисманса, утонченного упадочника, с притупленной восприимчивостью и больной чувственностью, был интерес к сатанизму, он пожелал экспериментально проверить природу сатанизма, игравшего такую роль в родные ему средние века, но не было у него никогда сатанистского уклона воли. Воля у него была слабая, но благочестивая, чувственность же была упадочная и слишком истонченная. «La bas» не есть ни проповедь сатанизма, ни объективное его изображение, а изобличительный документ против сатанизма. Парижский сатанизм модерн, который был одно время в моде и которого коснулся Гюисманс в период своего декадентства, даже не страшен, слишком жалок и ничтожен. Но в качестве исследователя сатанизма Гюисманс тонко подмечает, что явление это, подобно тени, тянется за католичеством. Настоящую черную мессу может совершать только католический священник, без като-
127
29.111.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
лического аббата не будет настоящего кощунства и надругательства. В католичестве есть обратная сторона, есть связь с темными силами. Недаром на католических храмах изображены отвратительные чудовища.
Вопрос о черной магии имеет большое значение для раскрытия сущности христианства. Есть основание предполагать, что то, что в язычестве было натуральным таинством, совсем не демоническим, то после Христа и Его таинств становится черной магией и сатанизмом. Христианство изгнало из природы духов, освободило природу от демонологии, но изгнанные духи вернулись в обличии демоническом и породили сатанизм. Тут скрыта какая-то тайна. В черной магии есть своекорыстная жажда власти над естеством и веществом и вечная постыдная зависимость от естества и вещества.
В «La bas» есть очень тонкая сексуальная психология. Психологии любви вообще у Гюисманса нет, в его романах нет никаких романов. Но есть психология пола, и особенно она интересна в отношении Дюрталя к женщине, одержимой сатанизмом. Тут ставится очень глубокая проблема: сближает ли, соединяет ли мужчину и женщину сексуальная жизнь? Психология пола у Гюисманса дает отрицательный ответ: не соединяет, не сближает, а разъединяет и отчуждает, убивает влечение, делает противным предмет влечения. В основе сексуальной жизни есть что-то демоническое, нет радости, нет соединения. Во всяком случае, тут ставится очень большой и больной вопрос. Женское сатанистское сладострастие предстает в «La bas» в самом непривлекательном, отвратительном виде, ничем не прикрытое. Гюисманс дает важные материалы для психологии пола, в материалах этих чувствуется глубоко пережитое. Во всех книгах Гюисманса разлита атмосфера сексуальной чувственности, но нет пафоса любви, нет эротики. Упадочная чувственность убила не только возможность любви, но и мечту о любви. Это очень характерно для Гюисманса. Женщина является для него исключительно соблазном, злым видением. В «La bas» сатанизм предстоит перед ним в образе одержимой женщины. В «En route» женский образ постоянно мучит и соблазняет его в церкви, во время молитвы, отвращает его от религиозной жизни. В этом для Гюисманса есть что-то невыразимо мучительное. Иные моралисты пробовали уже признать
128
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
Гюисманса порнографическим писателем. Какая нечуткость! Гюисманс рассказывает об испытанных мучениях, дает тончайшую психологию упадочной сексуальности, но он дорогой ценой купил себе право писать обо всем этом. Гюисманса можно противопоставить всей современной французской литературе.
«La bas» заканчивается криком отчаяния, болезненным протестом против современной жизни, против современной Франции и Парижа. Гюисманс говорит, что народ его очень болен и что человеческими средствами нельзя его излечить. Можно рассчитывать только на сверхчеловеческую помощь. Но взгляд Гюисманса обращен назад, к средним векам. Он бежит в средние века от современности, все его последующие книги рассказывают об этом бегстве. Много глубоких мыслей брошено в последних главах «La bas». «Этот век позитивистов и атеистов все уничтожил, кроме сатанизма, которого он не мог сдвинуть ни на один шаг». «Самая большая сила диавола в том, что он заставил себя отрицать». Это очень тонко. В конце романа «La bas» разговоры ведутся в разгар буланжизма, и пошлые крики «да здравствует Буланже» терзают слух утонченных героев Гюисманса, поглощенных мистикой. «Нынешний народ не приветствовал бы так ученого или артиста, или даже сверхъестественное существо, какого-нибудь святого». «Но он делал это в средние века». «Здесь внизу все разложилось, все умерло, но там, наверху! я верю, там готовится излияние Св. Духа, сошествие Божественного Параклета102». Здесь только выразил Гюисманс свои новые чаяния, и на этом следует остановиться.
Среди буржуазного Парижа, плененного буланжиз-мом, странный разговор происходит на колокольне St. Sulpice между Дюрталем и звонарем, проповедником идеи иоаннитов о Третьем Завете Св. Духа103. Говорят о вещах далеких и чуждых и современному Парижу, и всему современному миру. Звонарь Gevingey — религиозный энтузиаст, он последователь Иоахима из Фло-ры104, средневекового пророка Вечного Евангелия и Третьего Закона Духа*. «Если Третье Царство — иллюзия, какое утешение может остаться христианам перед лицом
* Потрясающий образ Иоахима из Флоры хорошо нарисован в книге Жебара «Мистическая Италия».
129
29.111.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
всеобщего расстройства мира, который мы не ненавидим лишь из милосердия?» «Есть три царства: царство Ветхого Завета, Отца, царство страха; царство Нового Завета, Сына, царство искупления; царство Евангелия от Иоанна, Св. Духа, которое будет царством избавления и любви. Это — прошлое, настоящее и будущее; это — зима, весна и лето; одно, — говорит Иоахим из Флоры, — дало всходы, другое — колос, третье даст хлеб. Два лица Св. Троицы открылись. Третье должно открыться». «Третье царство, — замечает Дюрталь, — провозглашается словами: да приидет Царствие Твое». Звонарь говорит, что действие Параклета должно очистить не только дух, но и тело. «Но в таком случае это будет земной рай!» «Да, это — царство свободы, добра, любви!» «Нужно делать различие между явлением Параклета и победоносным возвращением Христа. Одно предшествует другому. Нужно, чтобы общество сначала возродилось, охваченное Третьей Ипостасью — Любовью, чтоб Иисус сошел, как Он обещал, с облаков, и царствовал над народами, уподобившимися Его образу». Что же будет с папой? «Времена с первого явления Мессии делятся на два периода: период Спасителя, страдающего и искупляющего, в который мы живем, и другой, которого мы ждем, период Христа, очищенного от унижений, прославленного великолепием Своего Лика. И есть разные папы для каждой эры; священное писание возвещает двух первосвященников». «Дух Петра живет в своих заместителях. Он будет жить до наступления эпохи Св. Духа. Тогда Иоанн, который оставался в стороне, начнет свое священство Любви, будет жить в душах новых пап». «Но зачем папа, когда Сам Иисус будет виден?» «В день, когда появится Иисус, первосвященство Рима прекратится». «Если позор нашего времени преходящий, то уничтожить его может лишь вмешательство Божье, потому что ни социализм и ни другие нелепые мечты рабочих, невежественных и озлобленных, не могут изменить природы людей и реформировать народы. Это выше сил человеческих». Но Дюрталь не заражается религиозным энтузиазмом Иоаннитов. «На что же вы надеетесь, если не верите в пришествие Христа?» — «Я, я ни на что не надеюсь». — «Я вас жалею, вы, значит, не верите ни в какое улучшение в будущем?» — «Я верю, увы, что старое небо грезит над опустошенной и изолгавшейся землей». Дюрталю предстоял еще долгий путь, о котором рассказано в «En route»,
130
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
«Cathedrale» и других романах Гюисманса. А когда он пристал к христианскому берегу, он так устал, так был обессилен, что не до новых идей ему было, не до Третьего Завета. Религиозного энтузиазма нельзя ждать от Гюис-манса, с трудом несет он муку жизни.
«En route» — самая интересная книга Гюисманса, в ней описывается его обращение в католичество. Тут чрезвычайно тонкая психология двойственности, вечное колебание веры и сомнения, утонченная смесь декадентства с католичеством. Дюрталь ходит в церковь, плененный красотой католического культа. У Дюрталя-Гюисман-са преобладает литургический интерес к католической религии. Никто еще не проникал так в литургические красоты католичества, не истолковывал так готики. Одно это делает Гюисманса большим писателем. Шатобриан пытался дать эстетическую апологию като-личества105. Но Гюисманс выше его, как исследователь католической эстетики. Он вошел в церковь через искусство и красоту. Для него в жизни остались только красота и искусство, все остальное опостылело ему. Но та культура, которая убивает католичество, убивает также красоту и искусство. Католическая культура создала великие храмы, великий культ, великую эстетику и мистику, великие книги. Обращение в католичество не может быть отречением от красоты, католичество есть оправдание красоты. Гюисманс не был еще католиком, когда уже зачитывался христианскими мистиками, любил храмы и культ, он давно уже любил католическую культуру. Что же он терял от перехода в католичество? Терял женщин, но женщины дают ему лишь муку. Правда, от муки этой не так легко отказаться. Дюрталь не в силах сам справиться с религиозными противоречиями своей больной души, он ищет духовного водительства. Он решается идти к католическому аббату и ему поверить свои мучения. Он хочет жить под духовным руководительством. Дюрталь-Гюисманс жаждет снять с себя бремя свободы, отречься от своей воли, отдаться водительству. Католичество идет навстречу таким душам, помогает им, притягивает их к себе. Для Дюрталя-Гюисманса христианская религиозная жизнь не есть повышение волевой активности, обострение ответственности, а прекращение волевой активности,
131
29.111.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
снятие ответственности. Католичество сильно и властно, оно давит слабых и безвольных. Гюисманс женственно отдается католичеству. Он делает последнее усилие воли отказаться от своего прошлого и поверить, а после этого изнемогает, волевая активность в нем замирает. Для Гюисманса христианство не столько религия свободы, сколько религия освобождающая от свободы. Свобода измучила его в декадентстве, в католичестве он от нее отказывается. Подлинной свободы по безволию своему он не знает. В психологии Гюисманса открывается тайная связь декадентства и католичества, общий им упадок воли. Но в католичестве есть и другая сторона, сторона могучей воли и власти, руководящая безволием и бессилием. Католическая мистика и католический культ — чувственны, чувственны прежде всего, в них есть сладость и истома, что-то влекущее и обезволивающее. Гюисманс чувственно принял католичество, соблазнился и пленился им, волевая же религиозная активность осталась в нем слабой. Православие труднее было бы так принять. Религиозная мистика и эстетика неизбежно имеют чувственную сторону, но в здоровой религиозной жизни она сочетается со стороной волевой и мужественной, со свободной ответственностью. Избыток принуждающей воли и власти в католической иерархии имеет обратной своей стороной избыток чувственности и пассивности в католическом культе и в мистике подчиненных и пасомых. Это особенно чувствуется в судьбе Гюисманса.
Дюрталь еще не верил и не обратился, когда говорил уже: «меня захватило католичество, я опьянен его атмосферой ладана и воска, я блуждаю вокруг него, тронутый до слез его молитвами, плененный до глубины души его псалмами и пением. Я чувствую отвращение к своей жизни, к самому себе, но отсюда далеко еще до рождения к новой жизни». Дюрталь любит старое, средневековое католичество и боится, что в католичестве современном не найдет он уже чарующей мистики и красоты. Его мучит то, что «католицизм современный далек от мистики, потому что религия католическая настолько же низменна, насколько мистика высока». Беспокоит его, что католическое духовенство не поймет его: «они ответят мне, что мистика была интересна в средние века, что она находится в противоречии с современностью. Они поду-
132
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
мают, что я сумасшедший, будут убеждать меня делать как все, мыслить как все».
Дюрталя тянет в монастырь, настоящий монастырь, который перенес бы его в атмосферу средневековья. Его духовный руководитель советует ему поехать в монастырь траппистов, в котором сохранилась еще атмосфера католической святости. Описание этого монастыря в «En rou-te» — чарующе прекрасно, это классические страницы, которые читаются с трепетом. Дни, проведенные Дюр-талем в монастыре траппистов, пережитая им борьба, из которой он выходит настоящим католиком, — все это так важно и ценно для религиозной психологии. Многие религиозные искатели нашей эпохи почувствуют в монастырских днях Дюрталя родное себе и близкое. Дюрталь думал найти в монастыре полный покой, а оказалось, что «именно монастыри обуреваемы темными силами; там ускользают от них души, и они во что бы то ни стало хотят их покорить себе. Нет на земле места, которое так охотно посещалось бы темными силами, как келия; никто не му-чится так, как монах». И все же, когда Дюрталь возвращается в опостылевший и далекий Париж, он вспоминает о днях, проведенных в монастыре траппистов, как о пережитой радости; все парижское вызывает в нем отвращение. Там, у траппистов, была такая сгущенная мистическая атмосфера, чистая и прекрасная. «En route» заканчивается словами: «если бы, — говорит Гюисманс, думая о писателях, которых ему трудно будет не увидеть, — если бы они знали, насколько они ниже последнего из послушников, если бы они могли вообразить себе, насколько божественное опьянение свинопасов траппистов мне интереснее и ближе всех их разговоров и книг! О, Господи! Жить, жить под тенью молитв смиренного Симеона!» Симеон — это траппист, который потряс душу Дюрталя своей святостью. Обращение Гюисманса было настоящим подвигом. Он проделал страшную, трогающую нас до глубины души работу.
В «La Cathedrale» отражается психология католического периода, но с вечными колебаниями и сомнениями. Дюрталя все более и более тянет в монастырь. Но его удерживает неспособность к подвигу, страх перед усилиями и перед суровой жизнью. Его чувственно притягивает созерцательная мистика монастыря, но у него нет сил для волевой религиозной активности. Он все договаривается
133
29.111.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
о том, чтобы взять на себя поменьше тяжестей. Разговоры Дюрталя с аббатом имеют двойной интерес: в них дана религиозная психология декадента-католика и в них же дано научное исследование католичества. Ведь «La Cathe-drale» — замечательное ученое исследование готики, католической литургики и мистики. Гюисманс углубляется до исследования тончайшей мистики цветов, животных, красок, вообще религиозной символики. «La Cathedral e» — это книга о католических храмах, культе и символике, она неоценима для тех, кто хочет изучить католичество в тончайших его изгибах*. В книге этой можно научиться таким тонкостям мистики католичества, над которыми лишь очень немногие задумывались. Гюисманс делает огромное усилие перенести современного человека в мистическую атмосферу средневековой символики.
В «L'Oblat» описывается дальнейший католический путь Дюрталя. Но книга эта уже менее интересна, многое в ней повторяется, утомляют мелочи католической жизни. «Sainte Lydwine de Schiedam» — жизнеописание католической святой печалит своим творческим бессилием, подрезанностью крыльев. Гюисманс хочет реставрировать средневековое католичество с мелочным педантизмом, с духовной робостью. Он упивается болезнями и страданиями святой Лидвины, и образ святой выходит у него почти отталкивающим, принижающим, а не вдохновляющим. Характерен католический срыв св. Лидвины106: она смотрит на свои страдания, как на искупительную жертву, подобную жертве Христовой. В этой совсем уж католической, католической без муки сомнений, книге Гюисманса нет подъема и вдохновения. Под конец жизни Гюисманс покорно и смиренно нес непосильную тяжесть своих болезней, и его пленило в святой Лидвине это смирение перед болезнями, это мистическое упоение болезнями. В тяготении Гюисманса к средневековому католичеству была мечтательность и подъем, его окрыляло восхищение перед литургическими красотами и мистическими богатствами еще далекого католичества. Но когда он вошел в католическую жизнь, сказалось роковое отсутствие творчества, активности и воли в его религиозности. Прошла тревога, и творчество угасло. Все его творчество было лишь пове-
* В «La Cathedrale» вставлено ценное исследование о картине Фра Беато Анжелико «Le couronnement de la Vierge».
134
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
ствованием о пережитых муках. Дерзновения воли нет у него, нет религиозного почина. Так же принял католичество и Верлен: в католических стихах Верлена те же переживания, что и у Гюисманса. Через Гюисманса мы подходим к тайне католичества.
II
У Гюисманса есть и н д и в и д у а л ь н о е религиозное чувство, но нет в с е ле н с к о г о религиозного чувства. Е г о судьба, е г о мука, е г о гибель, е г о трагические противоречия — вот исключительный предмет его интереса. В христианстве Гюисманса нет отношения к другим людям и к человечеству, нет даже этой проблемы. Есть у него религиозное отношение к предметам, но нет религиозного отношения к людям. Его не мучит вопрос о судьбе человечества, о связи своей индивидуальной судьбы с судьбой вселенской. Он никогда не задумывается о социальной стороне той католической религии, которую принимает, никогда не думает о связи католичества с мировой историей. Гюисманс не выходит из себя, переходит за грани своей индивидуальности лишь в восприятии красоты. Он так до конца и не воспринял христианства внутренне, как вселенскую правду. Гюис-манс — очень типичный католик, католик даже в декадентский свой период. Но целая половина католичества его почти не интересует, ему остается чуждым католичество как власть, действующая в мировой истории, полная человеческой активности, в высшей степени волюнтаристическая. Чувственно-пассивная сторона лишь одна сторона католичества, но она непонятна без другой стороны, властной и активно-волевой. В католичестве индивидуальные души отдаются водительству с сладостной пассивностью, но в католичестве же есть и водительство душами, устроение вселенского царства. Читая Гюисманса, можно подумать, что католичество есть исключительно религия литургических и мистических красот, религия женственная. Но для католичества св. Тереза и Григорий VII одинаково характерны107. Мистика католическая — преимущественно чувственная, в ней много сладострастной истомы. Но власть католичества над историей волевая и мужественная. Мистическая чувственность и религиозная эстетика есть одно из орудий власти католического цар-
135
29.III.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
ства над миром и душами людей. Католическая церковь идет навстречу слабым и изнеможенным, тем, которые жаждут отречься от своей воли и сложить с себя ответственность. Но сама учащая церковь властна, волюнтари-стична, она берет на себя ответственность за души пасомых и сознает свою свободу. Тут сказывается основное для католичества деление церковного общества на клир и мирян, на пасущих и пасомых, на учащих и учащихся, на активно-водящих и пассивно-ведомых.
Даже в богослужении католическом и таинствах сказывается это деление, отражается эта пропасть. Под двумя видами приобщается лишь клир, мир же приобщается под одним видом, мир отделен от совершения таинства и допускается к крови Христовой лишь через иерархию учащую и пасущую. В православной церкви каждый молящийся участвует в совершении таинства Евхаристии, потому что церковь есть свободное общение в любви всех верующих. В православии иерархический принцип не играет такой роли и не руководит так душами. Православие и есть по преимуществу религия литургическая, в нем меньшее занимает место элемент дидактический. Католический разрыв церковного общества на две части сказался еще в том, что мир был лишен Священного Писания как непосредственного источника религиозной жизни, и духовенство стало между Евангелием и душами человеческими. Активный и волевой характер католической иерархии связан с пассивным и чувственным характером религиозности мирян. Пассивный и безвластный характер православной иерархии связан внутренне с более активной и волевой религиозностью мирян*. Сравните св. Серафима Саровского, величайшее явление мистической святости в православии, со св. Терезой, мистической святостью католичества. Православная мистика более мужественная и волевая, католическая мистика более женственная и чувственная**. В восточно-православной мистике Христос принимается
* Имею в виду исключительно внутреннюю активность, а не внешне-историческую.
** В западной литературе в последнее время очень повысился интерес к католической мистике. Укажу на книгу Delacroix «Etudes d'historie et de psychologie du mysticisme», написанную с научной точки зрения, и на книгу Pacheu «Psychologie des mystiques chretiens», написанную с католической точки зрения. Прославленная книга Джеймса «О религиозном опыте» тоже свидетельствует о повышении интереса к мистике.
136
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
внутрь человека, становится основой жизни, в западно-католической мистике Христос остается предметом подражания, объектом влюбленности, остается вне человека. Подражание страданиям Христовым, вплоть до принятия стигматов108, есть последнее слово католической мистической чувственности. Сладость Страстей Господних, упоение ранами Христовыми — вот пафос католической мистики. На Востоке Христос — субъект, дан внутри человека, на Западе Христос — объект, дан вне человека. Восточная мистика, восточное богословие, восточная метафизика выработала идею Qewaiq 'a — обожения человеческой природы (Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник, Григорий Нисский109 и др.). На Западе человеческая природа остается внебожественной, далекой, лишь устремленной и жаждущей. Идея обожествления человека у Мей-стера Экхарта110 и германских мистиков получена с Востока, от Дионисия Ареопагита, развивалась в протесте против католического разобщения человека и Божества и ведет к пантеизму. В католичестве непосредственное чувство Христа слабее, чем в православии. На Востоке — мистическая насыщенность, на Западе — мистический голод. Эта разница сказалась и в архитектурном стиле храмов. В храме готическом чувствуется вытягивание человека к Божеству, в храме восточно-православном — распласта-ние человека и схождение Божества. Чувственная мистика св. Терезы и мистика квиетизма111 * — обратная сторона властного деспотизма и юридического формализма католической иерархии. Тут есть таинственная связь. Таинственный промысел Божий в истории установил для таинственных целей разделение христианского мира на тип восточно-православный и западно-католический. Но в разделении этом есть и человеческий грех, и потому воля человеческая должна быть направлена к воссоединению и восполнению. Два типа и два пути одинаково нужны для вселенской полноты религиозной жизни. Без православной насыщенности, обожествляющей изнутри человеческую природу, и без католической устремленности, творящей религиозную культуру, одинаково неосуществимы вселенские цели Церкви.
Судьба Гюисманса трагична и поучительна. Он пережил новую муку и пришел к тому, что стал жить прошлым,
* Ложь квиетизма изобличает поистине удивительный мистик Рюсброк. См.: Rusbrock l'Admirable, traduit par E. Hello. С. 20—26.
137
29.III.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
отдался целиком реставрации прошлого. Он слишком католик и недостаточно христианин. В католичестве Гюисманса, как и Верлена, чувствуется дух рафинированной упадочности. Современность знает целый ряд мучеников нового духа. Мучениками были Бодлер и Оскар Уайльд, Ницше и Вейнингер112. В мученичестве их что-то приоткрылось. Но Гюисманс вернулся в церковь и исцелил в ней свои раны. Он особенное имеет для нас значение. Именно на судьбе Гюисманса ясно видно, что религиозное возрождение ныне возможно лишь путем усиления волевой активности и творческого подъема. Господь ждет от вернувшихся к Нему активности и творчества, свободы и дерзновения. В этом скажется высшая покорность Богу, праведное богоборчество, а не злое противление. Утонченная упадочность предваряет возрождение, но само возрождение идет от сдвига воли, от активного почина.
Из судьбы Гюисманса всего менее можно извлечь утверждение об упадке и гибели католичества. Католичество — страшная мировая сила, оно и не думает разлагаться, оно крепко и вечно возрождается. Католическое движение теперь очень сильно, никакие гонения, духовные и материальные, не могут ослабить его, скорее укрепляют. Католичество гонят во Франции, но там оно — огромная сила. Католичество приспособляется к современности то в форме модернизма, то в форме социального католицизма, то в форме католического декадентства, то в форме оккультизма, и выживает. Скоро, быть может, мы увидим возрождение католической литературы, подобное тому, которое видело начало XIX века. Это чувствуется уже у Гюисманса, у Верлена, которых интересно сопоставить с христиан-ствующими романтиками начала прошлого века*. Символизм есть уже путь к иному, к католическому возрождению. Католичество не одолеют и впредь, потому что в истории его жили не только грехи человеческие, жила в ней и вселенская церковь Христова. Католичество остается осью западной истории. Все проходит, все минует, все тлеет, одно католичество остается. Оно вынесло все испытания: и Возрождение, и Реформацию, и все еретические и сектантские движения, и все революции. Чувство вселенскости, которое дает католичество, поражает своей мощью и приводит в тре-
* Все, что было значительного и глубокого во французской литературе второй половины XIX в., связано с католичеством.
138
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
пет даже неверующих. Даже неверующие должны признать, что в этой исключительной силе католичества скрывается какая-то тайна, рационально необъяснимая. Католичество должно было бы уже погибнуть, если верить в неотвратимую историческую необходимость и социальную закономерность, в вечное приспособление жизни к новым условиям. Сила католичества есть иррациональный остаток для всякого рационального объяснения истории. XVIII век, полный рационалистического пыла, не раздавил ненавистного ему чудовища, а в XIX веке оно вновь поднялось и возродилось к новой жизни. Папа Лев XIII113 многими головами выше пап предшествующих эпох. То, что представляется рационалистам и позитивистам остатком средневековья, могущественно и славно и в веке XX. В лоно католичества возвращается ряд людей нового духа. Католичество по-прежнему притягивает своей красотой и мощью. Оно кровно связано с культурой, с мировыми историческими традициями. Католический модернизм говорит лишь о внутреннем кризисе, но не о крахе.
Великая европейская культура — католическая культура. Говорю о культуре, а не об американской цивилизации. Величайшие культурные памятники связаны с католичеством. Принято думать, что католичество всегда было против культурного прогресса, и есть основание это думать. Ведь католичество, говорят, сожгло Джиордано Бруно, замучило Галилея и совершило много других преступлений. Но то же католичество было очагом культуры и творчества, с ним связана такая красота культуры, что не сравнится с ней ничто, рожденное в недрах антирелигиозного движения, имевшее менее благородное происхождение. Ведь всякая культура связана с культом, в культе даны уже богатства и ценности культурного творчества*. Вот почему обычные разговоры об исключительной аскетично-сти католичества и вообще христианства имеют относительное значение и применимость. Католичество в истории было культурным богатством, а не аскетической бедностью.
* Античная культура — происхождения культового, религиозно-языческого, сакраментального. Эта язычески-религиозная плоть культуры вошла в католичество. Символика католической культуры связана глубоко с символикой культуры языческой. Но символика культуры всегда имеет истоки или религиозно-языческие, или религиозно-христианские. Рационалистическое просвещение антисимволично и антикультурно.
139
29.III.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
В истоках, корнях своих, европейская культура — религиозная и христианская, или языко-христианская. И искусство, и философия, и общественность зародились в лоне католической церкви. Языческая культура вошла в католичество. Католическое средневековье было эпохой культурной и творческой, эпохой богатой, полной высшего томления. Оскопление, культурное обеднение, ослабление творчества и убиение красоты связаны с рационалистической, рассудочной, антирелигиозной культурой. Революционный социализм и анархизм гораздо враждебнее культуре, творчеству и красоте, гораздо аскетичнее, беднее, чем католичество. Католичество вдохновляла объективная, сверхчеловеческая цель и ценность; прекрасные храмы, статуи и картины, богатый культ и культуру ставило оно выше счастья человеческого, пользы людской. Вот чего не понимает и не принимает современный гуманизм. Гуманистический социализм — потребителен и распределителен и потому принижает культуру объективных ценностей. В основе обедненной, оскопленной, аскетической культуры лежит мотив рационалистического иконоборства, вражда к мистической символике культа, переходящая и на всю культуру. Вся природа Гюисманса противилась рационалистическому иконоборству, была за мистическую символику, и то была католическая и культурная природа. Рационалистический дух, убивающий мистику и символику христианства, создает культуру обедненную, оскопленную, иссушенную, аскетическую в дурном смысле этого слова. Богатая культура, культура красивая и творческая связана кровно с христианской мистикой и символикой, с культом, с тем духом, который создал икону, зажег перед ней лампаду и воскурил ладан. Борьба рационалистического духа с иконой, лампадой и ладаном роковым образом превращается в борьбу с культурой, с культурной символикой, с мистическими истоками культуры. Рационализм подрезывает корни культуры и творчества*. И с иконоборческим духом должно бороться не только во имя веры, но и во имя культуры, не только во имя религиозной мистики, но и во имя культурной символики. Вне вселенской церкви нет культуры, нет таинственной ее преемственности. Литургические красоты
* Великая германская культура — детище протестантской мистики, а не протестантского рационализма. А такие явления германской культуры, как Гёте и Новалис, Фр. Баадер и Шеллинг, Шопенгауэр и Вагнер, вообще с протестантизмом имеют мало общего.
140
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
церкви, католической и православной, должны были бы убедить в той истине, что между христианской религией и культурой существует не антагонизм и противоречие, как теперь любят говорить, а глубокая связь и причинно-творческое соотношение. Св. Франциск Ассизский — христианская религия, аскетическая святость, но св. Франциск Ассизский и культура, мировая культура и красота, от него пошло раннее итальянское Возрождение. Никто ведь не осмелится утверждать, что современный вокзал — культура, а старый храм — не культура. Культура в своем цветении всегда символична, полна знаками иного, потустороннего, она зарождается в храме и из храма идет в мир. Это ведь самая подлинная историческая правда, просто факт, которого нельзя отрицать. Вот почему исследования Гюисманса о литургике, о готике, о религиозной символике связаны с самым существом культуры, в них чувствуется дух великой, не измельчавшей и не оскопленной культуры. Мечта о великой культуре, о всенародной органической культуре, есть неизбежно мечта о культуре сакраментальной, символической, по истокам своим мистической. С этим связана и мечта о синтетическом всенародном искусстве, мечта Вагнера, Малларме, Рескина, Вл. Соловьева, Вяч. Иванова114. Великая всенародная культура есть прежде всего великий всенародный культ, всенародный храм, в котором и из которого все творится. Сам Гюисманс был так замкнут в своей пассивной индивидуальной чувственности, так был обессилен, что не лелеял этой мечты. Он ничего не говорит о всенародном возрождении, требующем воли, активности и творчества.
В писаниях Гюисманса ясно видно и величие католичества, вся его красота и притягательность, и слабость католичества, все его недостатки и уродства. Предоставленное себе католичество так же мало способно преодолеть злое в себе, как и предоставленное себе православие. Лучшие люди стремились к восстановлению единства вселенской церкви и несли в себе чувство вселенскости. Есть великая религиозная тайна и святыня, которые хранятся в чистоте православным Востоком, но есть не менее великая религиозная сила, которая действует на католическом Западе. Взаимное восполнение восточных и западных начал, любовное слияние в единой правде должно привести к более высокому, вселенскому типу религиозной жизни.
141
29.III.1910
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
Я говорю не только о том, что официально находится в пределах церковной ограды западной и восточной, но и о том, что по видимости находится вне этой ограды. Воссоединение восточной и западной религиозности должно начаться не с соглашения официальных церковных правительств, а с взаимного устремления религиозных типов и духовных культур.
Западные декаденты вроде Гюисманса, да и все западные романтики, родились на почве католичества, проникнуты католическим духом. Кризис французского декадентства был бегством к католичеству (Бодлер, Верлен, Гюисманс). Также и романтики начала XIX века становились католиками. Это явление знаменательно. Есть тоска и томление, рожденные на почве католичества и католичеством не утоленные. Католическое возрождение проходит через романтику и декадентство. Православие не порождает из себя романтики и с трудом соприкасается с декадентством или сатанизмом. На православном Востоке есть, конечно, и романтики, и декаденты, но они вне-православного происхождения, на Западе же — происхождения католического. Православно-восточная мистика пронизывает человеческую природу природой божественной, как бы обожествляет ее изнутри, насыщает. Читайте св. Макария Египетского115, этого нежного, полного любви восточного мистика, в самой глубине его существа вы найдете божественное. Это один тип. Католическая мистика полна томлениями по божественному, оставляет божественное вне человека, как предмет подражания и страстного влечения. Отсюда — подражание страстям Господним, стигматы и проч. Этот тип мистического опыта дан уже у блаж. Августина, который разговаривает с Богом, как страстный любовник, и для которого божественное — объект, а не основа. В католичестве было томление по чаше св. Грааля с каплей крови Христовой: мир католический ведь был лишен приобщения крови Христовой. Отсюда романтическое томление. В восточной мистике — насыщенность. На Западе, в католичестве сильнее творчество, в этом великая правда Запада. Тень сатанизма вечно тянется за католичеством потому, что католичество обожествляет человеческую природу не внутренним насыщением, а страстным, воспаленным устремлением вверх. В православии нет этой тени
142
ДОКЛАД
Н.А. Бердяев. Утонченная Фиваида
сатанизма, в нем дан путь обожествления человеческой природы изнутри. Но обожествление это совершается в жизни святых, в святыне церкви, в старчестве, оно не переносится на путь истории, в общественность, не связано с волей и властью. В католичестве нет подлинного, изнутри идущего обожествления человеческой природы, но есть обожествление человека извне в папизме. Этим исторически объясняется самообожествление человека в гуманизме. Преодоление католического обожествления папы116 и гуманистического обожествления человека на Западе, раскрытие творческой религиозной активности, потенциально заложенной в восточном православии, должно повести к подлинному беохяд'у в исторической жизни человечества. Абсолютная святыня православной церкви, святыня св. Максима Исповедника, св. Макария Египетского и св. Серафима Саровского, став динамической силой всемирной истории и всемирной культуры, приведет к сакраментальному завершению истории, к богочеловеческому исходу из трагических противоречий нашего бытия. Западная католическая культура с ее томлением и устремлением вверх имеет свою творческую миссию, но на почве восточно-православной мистики легче рождается сознание апокалиптическое, так как Церковь православная не претендовала быть, подобно католической, уже осуществленным Градом Божьим на земле. Тогда начнется великое и всемирное религиозное возрождение, по которому томятся многие в наши дни. Томился и Гюисманс, — мученик декадентства, пустынножитель утонченной Фиваиды.
Из газетных отчетов
В Религиозно-философском обществе
— 29 марта Н. Бердяев сделал доклад под заглавием: «Утонченная Фиваида (Религиозная драма Гюисманса)». Декадент Гюисманс, автор порнографических романов, неожиданно отдается религиозным исканиям, сближается с духовенством, поселяется в монастыре и становится строгим католиком. Ряд его романов
— «La-bas», «En route», «La cathedrale»
— рассказывают историю этого обращения, начиная описанием современного парижского сатанизма, черных месс с утонченным истерическим сладострастием и кончая классически прекрасными картинами монастырской жизни. Анализируя психологию обращения, докладчик находит ключ к пониманию католичества вообще, его притягательной силы и продолжающегося господства над западным обществом. Это — чувственно-пассивный характер католической мистики, сладостное упоение страданием, женственная влюбленность в Христа, особенно яркая у таких лиц, как св. Тереза. Красота форм и звуков — весьма существенный элемент католичества и до сих пор продолжает привлекать к себе и порабощать волю верующих. Правда, католиче-
ство в целом всегда было церковью, воинственной и властолюбивой, но вся эта активность сосредоточилась в клире, который, отняв от мирян всякую инициативу, отгородился от них самым решительным образом, что отразилось в различии таинства причащения для мирян и для клира, в различии молитв и многих обрядов. Здесь сказывается противоположность между католичеством и православием. Впоследнем нет резкой границы между духовенством и мирянами, православие характеризуется соборным характером, активностью своей мистики и аскетизмом, сравнительно с католичеством. Однако докладчик не склонен отдавать предпочтение тому или другому вероисповеданию, он считает весьма желательным слияние этих двух церквей и думает, что это приведет к более высокой и интенсивной религиозной жизни. При этом слияние ничуть не должно начинаться с официального соединения церквей, оно может совершиться лишь путем взаимного ознакомления и позаимствования религиозного опыта верующих. В прениях приняли участие В. Иванов, С. Каблуков, г. Столпнер и др.
144
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Петрограде) История в материалах и документах
СЕЗОН
1910/11
ЗАСЕДАНИЕ 16 НОЯБРЯ 1910 г.
Д.С. Мережковский
Зеленая палочка
Он завещал похоронить себя на яснополянском кургане, где играл в детстве. Там основал он с братьями «орден для спасения мира»; в кургане зарыл какую-то зеленую палочку, веря, что, когда ее отроют, «наступит на земле Царство Божие».
Если это — легенда, то глубочайшая сущность его выражается в ней: детство, как Царство Божие. «Если не обратитесь и не станете как дети, не можете войти в Царство Небесное»117.
Он исполнил этот завет: стал как дитя, чтобы войти в Царство Божие. Этим начал и этим кончил жизнь.
Гёте сказал: «Счастлив, кто сумел соединить конец своей жизни с началом». Толстовское о п р о щ е н и е, которого мы до сих пор не понимали, хотя он столько говорил о нем, но все как-то не умел сказать, — есть конец жизни, соединенный с началом, возвращение к детству, вхождение в Царство Небесное. Мы это поняли, когда он не только сказал, но и сделал. Поняли, почему всегда ненавидел он сложное, взрослое, искусное, мудреное, только человеческое и любил простое, детское, мудрое, Божье.
Золотой век, детство мира — в прошлом? Нет, в будущем, утверждает Благая Весть. Когда снова станем детьми, поверим в чудо, то отроем зеленую палочку и наступит на земле Царство Божие.
147
16.XI.1910
Д.С. Мережковский. Зеленая палочка
За что мы все так вдруг полюбили его или, вернее, узнали, что любим? За то, что он — дитя Божье. Мы все хотим быть детьми, тоскуем о детстве, как будто о прошлом, а на самом деле о будущем, золотом веке. И как же нам не любить того, кто показал, что есть еще детство в мире, а значит, и Царство Божие на земле б у д е т?
Да, всю жизнь был дитя. Потому-то и был так счастлив. Чем дети счастливее взрослых? Мы трудимся; дети играют. Мы спорим о Боге; дети молятся. Мы знаем; дети любят.
Он всю жизнь, как дитя, играл, молился и любил. Сначала играл в божественную игру искусства; потом оставил игру, чтобы молиться; наконец оставил молитву, оставил все, чтобы любить. И умер за любовь. «На свете миллионы страдающих людей. Зачем же вы все — около меня одного?»118
Помянуть его нельзя никакими словами. Чтобы помянуть это Божье дитя, надо самим стать как дети. Мы себя не обманываем: знаем, как трудно это, почти невозможно для нас; знаем, какие все мы взрослые, сложные, скорбные, грешные... А все же попробуем. Если нам и не удастся, то самое усилие зачтется.
Все люди похожи на детей, которые не умеют ходить; когда падают, то чьи-то руки протягиваются к ним и поддерживают. Если и мы не сумеем, то, может быть, почувствуем эти помогающие руки.
Ведь как бы мы ни были взрослы, стары, дряхлы — все-таки каждый, хоть раз в жизни, любил, молился, играл в божественную игру искусства. И в игре, в молитве, в любви чувствовал свое детское сердце, не только прошлое, но и будущее. У каждого из нас была, а может быть, и есть еще своя зарытая зеленая палочка, своя детская вера в чудо. Не будем же стыдиться этой веры.
Верящее, детское разлито сейчас в самом воздухе России. Вот откуда придет к нам помощь, если мы попробуем высказать то, что все безмолвно чувствуем.
Что такое происходит? «Гражданские похороны» великого человека? О, насколько больше! Вот, может быть, единственные похороны, о которых Живой Вовеки не сказал бы: оставьте мертвым погребать своих мертвецов. Тут не мертвые хоронят мертвого, а живые живого несут в вечную жизнь — на тот веселый, весенний, детский яснополянский холм, где зарыта зеленая палочка.
148
ДОКЛАД
Д.С. Мережковский. Зеленая палочка
Когда ночные темные толпы, блуждающие, как овцы без пастыря, несли этот гроб и, не умея молиться, только плакали, это было начало какой-то новой молитвы. У людей еще нет имени Божьего, но они уже тоскуют, воздыхают о нем, и это воздыхание, почти безмолвное, может быть, сильнейшая из всех молитв.
Это — великое знаменье. Страшно то, что Церковь ушла от мира, а мир ушел от Христа. Но мы теперь видим, что Христос от мира не ушел. Ведь мы все, весь мир — с Толстым, а что он — со Христом, мы знаем; если же он, то через него и мы все, весь мир — со Христом. Вот почему такая радость в нашей скорби; в смерти его — наше воскресение. Сейчас этого почти никто не знает; но придет время — узнают.
И когда наши дети — недаром пока только дети (толстовское — детское) — ходят по улицам наших городов и повторяют последний вопль умершего за любовь: «Не могу молчать! Да не будет смертной казни!» это тоже начало какой-то новой молитвы. «Кощунство; старая, безбожная политика», — говорят взрослые. Но те, кто так говорят, сами кощунствуют. Надо иметь слепое сердце, чтобы не видеть, что тут есть что-то, кроме старой, безбожной политики. Ведь в нем самом, в Толстом, было мятежно-любящее, бунтующее и — да простят мне это не толстовское, не детское слово — р е в о л ю ц и о н н о е, — революционное и религиозное вместе, во имя Божье освобождающее.
З.Н. Гиппиус
Слова Толстого*
В прошлом 1909 году, в те времена, когда Лев Толстой уже сказал свое «Не могу молчать», когда все мы, средние и маленькие, одинаково поверили, что нельзя молчать, — в т е времена случилось мне напомнить читателям «Речи» о статье Жуковского «Смертная казнь»119. Старая статья, — и такая жутко-новая, такая сегодняшняя.
Убежденный православный церковник, Жуковский открыто воздвигает защиту смертной казни на двух камнях — православии и самодержавии. Он идет до конца: он хочет привлечь историческую церковь к самому явному участию в смертной казни, чтобы окончательно «освятить», превратить ее, — «акт любви христианской», — в церковное, христианское «Таинство».
И хотелось мне услышать, что думает об этом великий христианин — Лев Толстой. Моя статья была послана ему вместе с письмом, содержание которого мною теперь почти забыто, но о котором нужно упомянуть для того, чтобы яснее был ответ Толстого.
Если он, думалось мне, один из всех нас знает самые сильные слова, умеет их говорить, — то пусть же и говорит, не уставая, не переставая, не за одного себя, а и за нас, маленьких, полунемых. Мне казалось, что и от одних слов, — сильных слов сильного человека, — может измениться жизнь. Что слова-звуки, падая на к а м е н ь, могут источить его, пошатнуть это верное основание виселиц,
* Читано 16 ноября в посвященном памяти Толстого заседании Петербургского Религиозно-философского общества.
150
ДОКЛАД
З.Н. Гиппиус. Слова Толстого
рядом с которыми ни сам Лев Толстой, ни мы все не можем больше жить и дышать.
Так нам казалось, что мы не можем. И все мое письмо было просьбой о неустанной, непрестанной помощи — словами.
Думаю теперь, что он дал больше, чем мы умели просить. Думаю, что для него с л о в а были не то, что для нас. Он, кажется, ведал особую тайну; невнятную, непонятную нам тайну с л о в а в о п л о т и. И было оно у него не звук, не мысль выраженная, не движение души даже, — нет, каждое его слово рождалось, как живое существо, тяжко, трудно, кроваво. Он один был с этой тайной. Мы едва могли, едва можем, в редкие минуты, угадывать, что она есть. Но и смутное прикосновение уже заставляет вздрагивать сердца живых: вздрогнули же мы все, люди, наполняющие землю, в эти наши последние дни.
Вот что ответил мне на мою просьбу о словах Лев Толстой.
Белый конверт со штемпелем Ясенки120. Несколько строк секретаря Гусева121 о том, что Лев Николаевич знает статью Жуковского, всегда возмущался ею, писал о ней («Царство Божие», стр. 128), находит, что хорошо было напомнить об этом «ужасном кощунстве», и т.д. Наконец, страница высокого, связного, знакомого почерка, — такого знакомого всем1:
«Я последние дни чувствую себя очень слабым от возобновившегося нездоровья, в сущности от старости, но хочется самому написать вам хоть несколько слов в благодарность за вашу статью и в особенности хорошее письмо.
Стараюсь сколько умею и могу бороться с тем злом подставленной церковниками лжи на место истины христианства, на которое вы указываете, но думаю, что освобождение от лжи достигается не указанием на ложь лжи, а на полное усвоение истины, такое, при котором истина становится единственным или хотя <бы> главным руководителем жизни, как линяние у животных. Дружески жму вам руку. Рад общению с вами.
Лев Толстой»
Кто из нас, привыкших к легкости самых «сильных» слов, мог бы в то время понять, какая тяжесть заключена
1 Текст письма Л.Н. Толстого выделен З.Н. Гиппиус разрядкой. В настоящем издании выделение снято.
151
16.XI.1910
З.Н. Гиппиус. Слова Толстого
для самого Толстого в каждой из этих простых, коротких строчек?
Помню, и тогда, при свидании нашем в 1904 году122 в Ясной Поляне, странно — и только жутко — прозвучали для нас слова Толстого о его т е п е р е ш н е й жизни.
Он рассказывал, что пишет дневник. «Но трудно писать! Столько неверного, ужасного, тяжелого, гадкого в жизни, — как говорить об этом? Да вот, если б описать только один день моей т е п е р е ш н е й жизни... »
Мы изумились: т е п е р е ш н е й? мы не поняли этих слов тогда, — ведь это были для нас слова-звуки; мы не знали, что он может дать и дает нам больше, чем мы умеем просить.
И только раз, в то свидание, почудилась мне близость тайны в этом человеке, страшной, святой и живой. Говорили о воскресении. Он произнес:
«Ничего не знаю, но знаю, что в последнюю минуту скажу: вот, в руки Твои предаю дух мой! И пусть Он сделает со мною, что хочет. Сохранит, уничтожит или восстановит меня опять — это Он знает, а не я... »
Теперь, когда любящие руки уже протянулись к нему, — наша радость в том, что мы видим всю помощь, которую подал он нам. Теперь стало ясно, и просто, и легко многое, что прежде вязало и туманило нас. Родная земля ожила и вздохнула единой грудью. Отлучившие себя от первого ее сына — отлучены и ныне от нее. Пусть стоят на своих «камнях»... пока могут. Не будем указывать на них; ведь «не указанием на ложь лжи достигается освобождение». Жизнью своей и смертью великий христианин земли русской открыл нам глаза на Того, Кто истина и путь. «Истина сделает вас свободными...»123
Вздохнула родная земля единой грудью. «Я ухожу, — сказал Толстой, — но в жизни остаются люди, которые будут делать то, что я делал, и может быть, им удастся достигнуть того, к чему я всегда стремился».
Эти люди — все мы, вся Россия, кроме отверженных, отлученных от нее. И не надо слов больше, после слов Толстого.
Не будем говорить.
Будем делать.
С.Л. Франк
Памяти Льва Толстого*
Перед свежей могилой Толстого нельзя пускаться в рассуждения, нельзя давать отвлеченную критику и объективную оценку его учения и веры. Здесь можно лишь одно: постараться осмыслить свою скорбь и любовь к Толстому, понять, что она означает и к чему обязывает. Это ограничение совсем не тождественно с банальным и фальшивым условным правилом: de mortuis nil nisi bene1, которое так часто вырождается в обычай говорить о мертвых благонамеренную ложь. Это правило само мертвее смерти, я же имею в виду ту живую любовь, которая открывает нам душу отшедшего и наше подлинное отношение к ней.
При мысли о Толстом и его смерти мы все переживаем неподдельную и совершенно личную скорбь; все мы испытываем чувство, как при потере родного и близкого человека — странное и страшное чувство одиночества и опустения; кажется непонятным, что е г о уже нет, а жизнь идет своим порядком, как если бы ничего не изменилось, и сознаешь неизбежность примирения с горькой мыслью о жизни без н е г о. Только в том разница, что э т о т человек близок всем людям, и потому можно со всеми делиться
* Речь, произнесенная в заседании Петербургского религиозно-философского общества 16 ноября 1910 г. Речь эта ставит себе целью не оценку учения Толстого, а лишь уяснение впечатления от личности Толстого и его смерти. Оценку учения Толстого и определение того, что в нем, по моему мнению, истинно и жизнеспособно, я пытался представить в статье «Нравственное учение Толстого», помещенной в газете «Слово» в день 80-летия Толстого и перепечатанной в сборнике моих статей «Философия и жизнь» (СПб., 1910)
1О мертвых ничего кроме хорошего (лат.).
153
16.XI.1910
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
своим горем, не боясь быть назойливым; и так как все испытывают эту потерю, то она ощущается не как субъективное чувство, а как объективный, для всех очевидный факт: мир д е й с т в и т е л ь н о опустел со смертью Толстого.
Эта общность и солидарность всех в горе по Толстом — о немногих злобствующих изуверах или обездушенных глупцах, конечно, не стоит говорить — совершенно естественна; истинное величие Толстого в том и выражается, что он невольно заставил всех нас полюбить себя. Но в этом объединении вокруг могилы Толстого людей самых различных верований и убеждений, самой различной ж и з н и содержится что-то, с чем трудно и невозможно примириться, именно когда душа полна образом Толстого. О Толстом скорбят все, перед его прахом с любовью преклоняются и те, чью жизнь он считал заблудшей и порочной. Память его чтят и судебные деятели, и представители власти, и члены парламента, и революционеры, его любят и убежденные православные, и убежденные атеисты, люди чистой науки и поборники технического прогресса, хотя все, чем полна их жизнь — суд и власть, парламентская деятельность и революция, православие и атеизм, чистая наука и техника, — отрицалось и отвергалось Толстым. И ведь в этом положении находимся все мы: все мы, при всем разнообразии наших вер и убеждений, как будто чужды всему, чем жил Толстой, и все же мы его любим и поклоняемся ему.
Можно ли это признать совершенно нормальным? Конечно, различие мнений не исключает любви и почитания. Было бы глупо и недостойно из почтения к Толстому искусственно вымучивать в себе согласие с его верой, и было бы постыдно из-за разногласия мнений не замечать величия и красоты его духовного облика. Но все же — неужели это расхождение между личным чувством к человеку и объективным отношением к его вере может быть безграничным? Это, пожалуй, возможно в отношении людей, которые близки нам л и ч н о в узком смысле этого слова, там, где действует правило: «не по хорошу мил, а по милу хорош», но совершенно невозможно в отношении человека, личное чувство к которому определяется все же какими-то внеличными, объективными основаниями. За что же, в конце концов, мы любим Толстого, если его вера и его жизнь, руководимая этой верой,
154
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
ничего не говорит нам или даже прямо нам враждебна? «Великий талант», «великая душа» — эти обозначения выражают только наш невольный трепет перед духовной мощью, но не объясняют интимности нашего отношения к Толстому. Правда, человек, как личность, и его мысли и мнения суть разные вещи; но между ними все же имеется связь, и эта связь есть то, что зовется живой душой человека и в чем уже неразрывно слиты теория и практика, мысль и жизнь, ум и чувство. Нам дорог Толстой — это значит: нам дорога его жизнь, озаренная ему одному свойственным светом, нам дорога его вера, по крайней мере, поскольку она непосредственно коренится в его душе и определила его жизнь. Может ли любить Толстого тот, кто считает его безумным и вредным мечтателем, который проповедывал только ложь и не понял истинной сущности человека и жизни? Вернее, пожалуй, обратить этот вопрос: может ли тот, кто истинно любит душу Толстого, не чувствовать внутренней правды в том, чем жил Толстой? Было бы неправильно ставить границы для любви, и если враги духа Толстого все же любят его личность, то это — тем лучше. Но можно поставить вопрос, не должны ли наши мысли и оценки гармонировать с нашими чувствами и не отставать от них. И нет надобности сомневаться в искренности тех, кто совмещают любовь к Толстому с враждой к его духу; человеческая душа полна противоречий и может на самом деле одновременно испытывать то, что по существу несовместимо. Но нельзя сомневаться, что такая неуясненная двойственность отношения полагает в душе разлад, требующий устранения; это должны непосредственно ощутить все, кто ищет прочности, глубины и цельности в своих чувствах. И когда в душе сталкиваются оценки, основанные на отвлеченных рассуждениях, и оценки, вытекающие из живого чувства любви, победа всегда в конечном счете окажется на стороне последних.
С нашим отношением к Толстому должно теперь произойти то же, что вообще случается с нашим отношением к близким и дорогим людям после их утраты: любовь, которая сильнее всего разгорается в нас и овладевает нами под влиянием острого сознания этой утраты, запоздалая любовь просветляет нас, и мы впервые начинаем понимать, кого мы собственно лишились, как велика невозвратимая потеря и как мало мы ценили, как поверх-
155
16.XI.1910
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
ностно мы относились к предмету нашей любви, пока он еще был с нами; мы вдумываемся в душу и мысли покинувшего нас, и любовь открывает нам ту правду в них, которую мы ранее не замечали. Нельзя поверить, что именно на этот раз любовь не откроет нам глаз, что дни общенародной скорби пройдут бесследно для нашего сознания; ведь здесь дело идет не об одном только бесплодном раскаянии и сожалении, а о приобщении себя к тем духовным богатствам и силам, которые определили величие и красоту Толстого.
Я повторяю свой вопрос: за что, собственно, мы любим Толстого? И тут вряд ли могут быть сомнения и разногласия; мы любим его не за его художественный гений и не за его отвлеченное учение; то и другое сияет для нас лишь отраженным светом — светом его души. А то, чем ослепительно сияет для нас его душа, есть прежде всего два основных ее свойства: безграничное правдолюбие и острота нравственной совести. Толстой — пророк, который не знает иных мерил, иных точек зрения и оценок, кроме правды и праведности. Мы можем видеть правду не там, где видел ее он, и мы можем быть убеждены в исконной силе зла, которой он не допускал. Но сама правда и совесть действует неотразимо, привлекают и покоряют помимо воли. И если Толстой умеет почти гипнотически действовать на нас, если душа наша почти неудержимо рвется навстречу ему, как бы мы ни относились к нему сознательно, то это есть действие на нас всепокоряющих сил правды и совести. Бесстрашие пророка, который спокойно и без колебаний шел во имя правды против всего мира и всех земных сил, — конечно, э т о т образ покорил весь мир. Беспощадное отрицание и разоблачение всего ложного и фальшивого, всего поверхностного и шаткого, всего, что под сложной и утонченной внешностью таит убогое и внутренне несостоятельное содержание, и наряду с ним, то чутье правды, которое в художественном творчестве Толстого сказывается в его беспримерном психологическом анализе и граничит с сверхчеловеческим ясновидением, — эта острота и пронизывающая сила правды бросает нас в тот «мороз и жар восторга», о котором говорил Тургенев124. Но эта правда не есть холодная и отвлеченная истина теоретика, и в этом отрицании и разоблачении нет черт бездушного презрения и мефисто-
156
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
фельского сарказма; Толстой ищет правду лишь во имя совести и видит ее только в праведности и любви. Правда, тот же Тургенев справедливо отметил, что непосредственно и по своей душевной природе Толстой чужд любви125, и мы не должны, из ложного пиетета, замалчивать это верное суждение. Это не случайный дефект, не отдельное досадное пятно, которое искажало бы чистый облик великого проповедника, а органическая черта, которая коренится в основном свойстве его натуры, создавшем из него пророка и подвижника. Толстой, по тонкому определению психолога Джеймса, принадлежит к типу «дважды рожденных» натур126. Натуры «однажды рожденные» находят религиозное блаженство и успокоение сразу и непосредственно, в силу прирожденной и исконной гармонии своей личности. Напротив, натуры «дважды рожденные» приходят к религиозному идеалу лишь через борьбу со своим стихийным существом, через отречение от старого и духовный переворот. Таков Толстой. Глубоко страстное, земное, грешное и мятежное существо, он достигает религиозного света через отрицание всего и борьбу против всего, к чему его влекут стихийные порывы, и если чувство и идеал вселенской любви проникает его именно как противовес естественному стремлению его страстной и могучей натуры к безграничному расширению и удовлетворению его личного «я», как противовес его титанической воле к бытию и власти, — то это есть лишь частный случай общего характера внутренней борьбы и самопреодоления, который носит его религиозное сознание. При этом не нужно забывать, что все, достигнутое подвигом и борьбой, ощущается всегда тем острее, глубже и сильнее, а также и того, что новое духовное состояние, осуществленное через самопреодоление, совсем не есть что-то надуманное и отвлеченно признанное, а есть столь же исконный и органический продукт личного духа, как и состояние, уже преодоленное. Несмотря на все перевороты, пережитые Толстым, или, скорее, именно в силу их, Толстой всегда оставался целостной и непосредственной натурой: всегда продолжала сказываться его страстная и земная душа, и всегда он столь же непроизвольно ощущал те высшие чувства, в которых она преодолевалась и погашалась; Толстой-дитя уже мечтал о том всемирном братстве, с мыслью о котором умер Толстой-старец.
157
16.XI.1910
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
И праведность всю жизнь была единственной мечтой Толстого, и всегда была подлинной, внутренней силой его существа, хотя и достигаемой через самопреодоление. И если уже юноша-Толстой органически «всем существом своим» понял греховность и ужас смертной казни, если Толстой-художник задолго до своего осознанного переворота изобразил искания праведности и любви, немыслимые без соответствующих чувств в душе самого художника, — то мы понимаем, что и «вторая» его натура была столь же непосредственна и органична в нем, как и первая. В его душе было как будто отверстие, через которое он прямо видел и осязал добро и любовь, как бы непроницаемы ни были в остальных направлениях стены, которые ограждали его душу от живого огня любви.
И если нас потрясал великий правдолюбец, то столь же неотразимо действует на нас голос любви в нем, неустанный призыв к любви и всепокоряющая вера в ее могущество. Повторяю, то, что побеждает нас в Толстом, есть лучи или, скорее, молнии правды и любви, которые он с такой пророческой силой бросал в нас.
Но этим сказано еще очень мало — сказано лишь то, что, в сущности, сознательно или бессознательно испытывают все. Вопрос состоит в том, нет ли в этом непосредственном впечатлении от Толстого или в чувстве к нему какого-либо начала признания самой его веры, внутренних мотивов его миросозерцания. И тут прежде всего и сразу ощущаешь одно: эти два основных свойства души Толстого теснейшим образом связаны с его органической религиозностью. Вера в правду и любовь есть лишь отражение и проявление веры в божественную первооснову жизни. Так ощущать силу правды и любви может лишь тот, кто знает и чувствует, что эта сила имеет значение и происхождение не человеческое, а вселенское и абсолютное. Что такое, с земной, эмпирической точки зрения, правда и любовь? Человеческие силы, действующие в мире наряду с другими и обратными силами, — силы, успех которых ничем особенно не гарантирован. Поэтому с точки зрения здравого смысла или опыта вера во всемогущество правды и добра есть всегда слепая вера или глупость; житейская рассудительность должна всегда видеть в вере Толстого только наивную и неосновательную мечту или вредную ложь: «иудеям соблазн и эллинам безумие».
158
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
Но для религиозного сознания оказывается естественным и самоочевидным то, что бессмысленно и невозможно с эмпирической точки зрения, и наоборот: естественное и неизбежное в жизни представляется невероятным и прямо невозможным с религиозной точки зрения. Толстой сказал однажды изумительные слова о смертной казни, которые выражают его общее отношение к эмпирическому злу и неправде: «Смертная казнь как была, так и осталась для меня одним из тех человеческих поступков, сведения о совершении которых в действительности не нарушают во мне сознания невозможности их совершения». Отсюда понятно, как бессмысленно было бы опровергать Толстого фактами и опытом. Когда фокусник производит на наших глазах действия и показывает факты, как будто опровергающие законы природы, в истинности которых мы глубочайшим образом убеждены, мы не верим тому, что видим, а продолжаем верить в эти законы природы. Так и Толстой не верит фактам жизни, когда они расходятся с его верой в безусловные законы нравственной и религиозной природы. Что правда и любовь всюду нужны, уместны и пригодны, что в известной глубочайшей сфере человеческого сознания они суть единственные подлинно реальные и потому всемогущие силы, — и что все остальное есть не реальность, а призрачное наваждение, — это для Толстого было столь же достоверно, как для нас — логическая аксиома «А есть А». Конечно, и с религиозной точки зрения можно не удовлетворяться тем дуализмом Толстого — присущим, впрочем, и Платону, и в значительной мере всему христианству, — который достигает высшего мира лишь через отказ от мира эмпирического; можно искать такой религии, в которой и земная жизнь вмещалась бы, как реальность и благо, а не отрицалась, как сон и ложь. Но все же лишь с религиозной точки зрения становится вообще п о н я т н о й позиция Толстого, и его отношение к эмпирическим фактам перестает быть просто глупым и становится возвышенным. Отнимите от Толстого эту веру в высший, религиозный миропорядок, это платоновское непосредственное ощущение, что факты и законы земной жизни суть только сон и обман по сравнению с фактами и законами подлинно сущего бытия, — и Толстой превратится для нас в смешного глупца или в скучного, упрямого доктринера, в Ма-
159
16.XI.1910
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
нилова или в генерала Пфуля, и станет действительно непонятным, как можно так сильно любить человека, который так мало нас духовно удовлетворяет. Напротив, если мысль его, признающая только правду и любовь, заставляет нас трепетать и любить его, то это значит, что, несмотря на все наше сознательное неверие, мы все же невольно откликаемся на голос, напоминающий нам об ином и высшем мире. И если теперь мы не можем примириться с мыслью, как может мир остаться без Толстого, то это значит, что мы не допускаем жизни без пророческого голоса о высшем мире и высшей правде.
Еще с иной точки зрения можно показать, что вне религиозности нет самой души Толстого, которую мы любим. Было справедливо отмечено, — да, впрочем, сам Толстой признал это в своей «Исповеди»127, — что исходным пунктом и мотивом всего мировоззрения Толстого был страх смерти. Это есть тоже одно из тех психологических сплетений в душе Толстого, в которых именно его земная натура определила в нем искание и достижение религиозной правды. Человек, никогда не задумывающийся над фактом смерти, будет всегда чужд религии, и, наоборот, человек, всецело одержимый мыслью о смерти, всегда испытывает религиозные чувства, каково бы ни было его сознательное мировоззрение. Что такое был страх смерти у Толстого? Это был во всяком случае не просто животный инстинкт, иначе его ведь нельзя было бы преодолеть никакой верой и никакими размышлениями. И мы знаем по «Исповеди», что страх смерти значил у Толстого мистический ужас перед временным, преходящим характером жизни, ужас перед бессмысленностью всей жизни, если она проходит и исчезает бесследно и не прикреплена к чему-либо вечному и безусловному. Жажда вечного и абсолютного, потребность понять жизнь, каждый шаг и момент жизни «под неким знаком вечности», ибо вне вечности все становится бесцельным и бессмысленным, — ведь надо же признать, что именно это ощущение, а не какие-либо отдельные нравственные чувства или общественные идеи, есть само существо души Толстого. Жажда вечности и непосредственное чувство вечности есть начало одинаково и философии, и религии, и без них нет ни истинного мудреца, ни истинного пророка и подвижника. Кто исходит из них, для того все вопро-
160
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
сы жизни приобретают новый смысл и новую форму. Все они требуют тогда абсолютного разрешения, — разрешения, которое могло бы немедленно и всецело примирить нас с жизнью. Здесь становится невозможным общественный утилитаризм, рассматривающий личную жизнь, лишь как средство для блага будущих поколений, общественные проблемы связываются с личными и подчиняются им, и вся жизнь сосредоточивается в одном чувстве и в одной мысли. Кто не испытывает и не понимает этого мироощущения, тому Толстой по существу должен быть чужд; что Толстой говорил разные хорошие и благородные вещи, или что он был вообще великим человеком, не может же заставить тех, кому он чужд, чувствовать его родным и близким себе. И если, напротив, мы все это чувствуем, то это значит, что веяние вечного покоряет нас и что вопрос о смысле жизни заставляет нас трепетать всей душой, — даже тех из нас, которые сами считают себя закоренелыми позитивистами и атеистами.
Вера в смысл жизни и потребность устроить и переживать жизнь так, чтобы она имела этот абсолютный смысл, чтобы в каждом ее мгновении сияли лучи вечности, эта вера и потребность проникает все учение Толстого, и как бы мало нас ни удовлетворяли те отвлеченные теории, в которых он выражает свое учение, самый дух последнего мы должны принять и любить, если мы любим Толстого. Я укажу лишь на два пункта, в которых отражается религиозный дух Толстого: один касается области практики, другой — области теории, один относится к формам действия, другой — к формам познания. Центром нравственного мировоззрения Толстого является учение о непротивлении злу злом. Что означает это учение не по своей букве, а по своему внутреннему духу? Я по крайней мере непосредственно ощущаю его правду, как чисто религиозную истину: добро коренится в сердцах человеческих и может осуществляться только через сердца. Как ни банальна и мало содержательна, на первый взгляд, эта формула, она отделяет непроходимой пропастью религиозное понимание добра от позитивного и утилитарного, и по своему духу учение Толстого есть не что иное, как призыв к признанию личной и вместе божественной природы добра. Нельзя приемами зла творить добро, нельзя, в расчете на отдаленную выгоду потомства,
161
16.XI.1910
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
общества, человечества, терпеть нравственный ущерб, нельзя нравственный капитал личности отчуждать и пускать в оборот, отрывать его от глубочайшего средоточия личности, как это делает утилитарное и механическое понимание добра с его принципом: «цель оправдывает средства». Добро есть не ставка в жизненной игре, не личное имущество, которое мы вольны растрачивать и пускать в оборот, а унаследованное от Божества и потому неприкосновенное достояние, которого мы ни на мгновение не можем лишиться, не потеряв связи с вечностью, а вместе с ней и смысла жизни. Можно спорить о том, вытекают ли из этой мысли те практические выводы в области нормирования поведения и отношений между людьми, которые делал из них сам Толстой, и я лично убежден, что они не вытекают, и что вообще никакая одинаковая и ко всем людям и случаям жизни равно применимая нормировка внешнего поведения не может быть логически выведена из нравственного идеала, который непосредственно определяет лишь настроение и склад души; суровый, мелочный и для всех одинаковый устав поведения, — то, что обычно разумеется под «толстовством», — есть лишь обрядовая, внешняя сторона учения Толстого, не связанная с самим его духом и даже противоречащая интимной свободе его внутреннего содержания; но нельзя не видеть, что это учение — при всей рационалистической прямолинейности и потому односторонности своих выводов — по своим посылкам, по своему духу и внутреннему смыслу есть необходимое и правильное моральное отражение религиозного жизнепонимания. С религиозной точки зрения нравственное творчество есть божественный процесс, осуществляемый душой, и потому оно может совершаться лишь органически и проступать изнутри наружу, а не делаться и сообщаться внешним, механическим способом; нравственная деятельность есть духовное произрастание и воздействие, процесс органического с а м о в о с п и т а н и я, как и воспитания других через органическое же з а р а ж е н и е добром.
В области созерцания и теории, в области Богопоз-нания и миропознания Толстой представляется большинству из нас еще менее приемлемым, чем в области нравственной. Верующие находят, что его вера скудна и одно-стороння, и что он слишком много прав предоставил
162
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
отвлеченному разуму. Люди неверующие, люди чистой науки и прикладного знания, напротив, полагают, что он слишком узко провел границы человеческого разума, отвергнув науку, технику, планомерное общественное строительство. Несомненно, правы те и другие, и мы не можем не искать мировоззрения, в котором одинаково ивера, и разум понимались бы более широко, чем у Толстого. И все же есть нечто, чем Толстой нас потрясает и заставляет внимать себе и в этой области: это есть та непосредственная цельность и устойчивость, с которой в нем самом примирены вера и разум. Все мы живем, раздираемые противоречием и борьбой между этими двумя началами; все мы не в силах охватить и замкнуть сферу знаний и верований, необходимость которых мы сознаем, найти ее связь и средоточие. Наиболее религиозные и преданные вере люди признают теперь, что, кроме веры, возможно и рациональное, научное знание; оно только не интересует их, и они требуют, чтобы оно не переступало своих законных границ и не вторгалось в дела веры. С другой стороны, самые фанатичные поклонники науки и рациональной практики мирятся с верой, как с«частным делом» личности и, по крайней мере, допускают ее психологическую необходимость. Времена, когда разум признавался дьяволом, и времена, когда он объявлялся божеством, одинаково прошли. Самые рассудительные, но не самые горячие из нас одинаково почитают и разум, и веру, но требуют, чтобы они были распределены по разным местам нашего мозга и не соприкасались друг с другом. Последнее решение есть, конечно, весьма полезное педагогическое и пропедевтическое правило, поскольку мы уверены, что фактически в головах огромного большинства людей смешение веры с разумом не может привести ни к чему, кроме сумбура. И вообще наше нынешнее отношение к вере и разуму делает честь нашей широте, терпимости и культурности; но оно все же свидетельствует, что мы — эпигоны, жертвы безвременья, что лучше всего мы чувствуем себя во втором и предпоследнем, а не в первом и последнем. И в мгновения великого трагизма, когда в лицо нам веет дыхание абсолютного, мы шатаемся и чувствуем себя беспомощными, сознаем недостаточность своей веры или своего разума и тоскуем по утраченному духовному единству. И вот рядом с нами,
163
16.XI.1910
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
в конце XIX и в начале XX в., посреди сложной, раздробленной и бесконечно спутанной культурной жизни, появляется человек, у которого есть единая душа и единая религия в глубочайшем смысле слова и для которого разум и вера есть одно и то же, — мудрец и пророк, как его знала древность и почти не знает новая культура. Подобно тому, как, например, Гераклит, Платон или из новых Спиноза не могут ведать и допускать религии за пределами своего знания, ибо их философия и есть для них религия, или подобно тому, как апостол Павел, Иоанн Богослов или блаж. Августин не знают какой-либо науки за пределами своей веры, которая и означает для них единственное и совершенное разумное познание жизни, — так и для Толстого вера и разум по существу есть одно и то же, и ему чуждо, бессмысленно и ненужно все, что стоит вне этого единства — одинаково и Тертуллианова вера в нелепость128, и современное поклонение безрелигиозному разуму. Конечно, то, во ч т о Толстой верил и что он видел, было, во всяком случае, неполно и односторонне. Но то, к а к он верил и видел, потрясает нас и делает Толстого в наши дни легендарным существом, как если бы среди нас жил ветхозаветный пророк или античный мудрец. Мы видим свет правды в раздробленных отражениях и отблесках, и не находим его источника или боимся взглянуть на него; он же своими орлиными очами глядел прямо на солнце, и если этот блеск слепил и его, и во всем остальном мире, где для нас есть свет, он видел только тьму, то это не может уже нас удивлять. Поэтому наше отношение к Толстому всецело зависит от того, предчувствуем ли мы, хотя и не можем узреть, тот свет, который он видел, тоскуем ли мы по нему или нет; в последнем случае он был бы только жалким слепцом, который спотыкается и там, где уверенно ступают дети, — в первом же случае он есть высшее существо, ослепленное слишком ярким светом.
В этом понимании Толстого, как существа, ослепленного светом, содержится, мне кажется, разгадка неизбежно двойственного отношения к нему. Он приводит нас в трепет и внушает нам благоговение, ибо мы видим, как сам он весь озарен лучами того света, который он прямо созерцает; но его отношение к нашей, земной, сумеречной жизни, как к абсолютной тьме, его неспособность различать многосложные очертания предметов и разнооб-
164
ДОКЛАД
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
разные переходы между светом и тенью, на которых основаны все наши расценки жизни, — все это неизбежно возбуждает в нас протест. Это положение ослепленного светом человека, который с дневного простора возвращается в пещеру, где видны лишь смутные тени, — это трагическое положение описал и пережил духовный брат Толстого — Платон. Мы же, благоговейно почитая человека, спустившегося с недоступных нам высот в нашу сумрачную пещеру, все же не можем отказаться от мечты увидеть солнце так, чтобы оно не затемнило, а осветило нам мир. Или, выражаясь иначе, Толстой видит свет лишь там, где кончается жизнь, где, на недоступных живому существу горных вершинах блестит бесконечная и однообразная ослепительная белая и ровная поверхность девственного снега; мы же, глядя на эти вершины, хотим, чтобы сияние их доходило до нас, освещало и оживляло все многообразие красок и очертаний нашей жизни. В этом — задача завершения и дальнейшего развития религиозного сознания; мы ищем святости без отречения от мира, мы ищем религиозной органичности жизни, не искупаемой ее обеднением и упрощением, мы хотим поверх неизбежного для религиозного чувства дуализма между абсолютным и относительным, тем и этим миром, укрепить и уяснить их высшее единство.
Но все же это преодоление Толстого возможно только через ту же тоску по свету, что жила в нем, и благоговейная любовь к Толстому предполагает единомыслие и единодушие с ним в самом основном: в общем религиозном отношении к жизни. Тогда разномыслие в р е-ш е н и и религиозной проблемы не исключает действия на нас его общего религиозного духа, и, расходясь с ним во мнениях, мы можем преклоняться перед ним, как перед пророком Божиим, и тосковать теперь над жизнью без пророка, — который ведь не так скоро вновь народится. Любовь и благоговение к Толстому о б я з ы в а ю т; они обязывают нас не к «толстовству», не к отказу от курения или городской жизни, а к отказу от обыденщины, от бессмысленного потопления жизни во временном и внешнем, от безрелигиозного отношения к жизни. И мне кажется, что эти чувства не только обязывают, но уже начинают осуществлять в нашей душе то, чего они требуют от нас. Мне кажется, что смерть Толстого пробуждает в большин-
165
16.XI.1910
С.Л. Франк. Памяти Льва Толстого
стве из нас глубоко дремавшие религиозные чувства, что наше отношение к памяти Толстого есть отношение по существу религиозное и что эта смерть может явиться началом коренного духовного переворота в сознании общества. Голос мертвых звучит и действует сильнее голоса живых. Эти дни национальной скорби по самом национальном нашем гении не должны и не могут пройти бесследно для национального самосознания; если объединение интеллигенции с народом, если единство национального сознания, о котором мы все мечтаем, может вообще осуществиться, то легче и вернее всего — вокруг могилы Толстого и с помощью того религиозного чувства, которое вызывает теперь и в неверующем интеллигенте, и в православном крестьянине эта священная могила. Я далек от кощунственной мысли об утилитарном использовании для общественных целей смерти Толстого. Я ощущаю в себе и вокруг себя нарастание того благоговейного отношения к Толстому, для которого оскорбительна утилитарная его оценка; и повторяю, мне хочется верить, что именно это новое чувство явится источником нашего духовного обновления. Если это случится — я не решаюсь этого утверждать, а высказываю лишь надежду и робкую веру, — то это духовное обновление послужит в свою очередь, само собой и без преднамеренной мысли о том, делу общественного обновления. Если же этого не будет, если смерть Толстого окажется не событием национальной жизни и началом новой ее эпохи, а лишь эпизодом, оживившим столбцы газет и залы собраний, то история скажет о нас, что мы не заслужили быть современниками Толстого и свидетелями его прекрасной смерти. Будем же верить этому, пока жизнь нас не опровергнет, будем призывать дух Толстого благословить и просветить нашу жизнь, личную и общенародную!
П.Б. Струве
Жизнь и смерть Льва Толстого*
I. Смысл жизни Толстого**
Что такое Толстой?
Толстой в самом себе, в своей л и ч н о с т и и жизни во п л о т и л противоборство Красоты и Добра в здешнем мире. Нет другого примера в истории мировой культуры, чтобы художник, которому, в его творчестве, дано было соединить величайшую лирическую тонкость и сложность в выражении душевных движений с эпической, чисто гомеровской изобразительностью всего «внешнего» в мире, чтобы такой художник-властелин отрекся от искусства и стал борцом против красоты. Не будем затушевывать и скрывать от себя этого противоборства К р а с о т ы иД о б р а в личности и жизни отошедшего гения. Ибо в нем, в этом противоборстве, значение Толстого, как громадного и единственного факта мировой культуры и религиозной истории. Толстой сам сказал: «чем больше мы отдаемся красоте, тем больше удаляемся от добра».
Он не на словах и даже не в мыслях, а в самой своей жизни воплотил величайшую метафизическую и религиозную загадку: что такое Красота в отношении к Добру? Есть ли Красота, так как мы ее ч у в с т в е н н о воспринимаем, — «красота человеческого тела» и «приятные на
* Произнесено 16 ноября в посвященном памяти Толстого заседании Петербургского Религиозно-философского общества. ** Для первой части своего слова я воспользовался целиком некоторыми мыслями и выражениями статьи о Толстом, написанной по поводу его восьмидесятилетия (Русская мысль. Август 1908 г.). В этой статье я высказал некоторые наиболее мне дорогие мысли о Толстом. П.С.
167
16.XI.1910
П.Б. Струве. Жизнь и смерть Льва Толстого
вид здания», красота «панихиды»* 129, красота звука и слова, красок и линий, есть ли телесная, чувственная красота выражение начала божественного, принадлежит ли она к«живому одеянию Божества», имеет ли она религиозное значение и оправдание? Или красота есть начало низменное и злое, есть просто «то, что нам нравится», есть лишь красивое слово для грубого факта наших пристрастий и похотей.
Это есть вековечная загадка «Плоти» и «Духа», перенесенная как бы на какую-то высшую ступень, духовно утонченная до противоборства «Красоты» и «Добра». Мировое значение Толстого не в том, что он з а д а л эту загадку, а в том, что задал ее о н, творец-художник, который сам когда-то написал пантеистическую поэму, гимн божественной красоте природы («Казаки»). И еще в том, что он задал ее в «здравом уме и твердой памяти», в состоянии полнейшего физического и душевного здоровья. Восстание Толстого против красоты, неразрывно связанное с его религиозным обращением, не может быть объяснено никакой «физиологией» или «патологией». Это дело чистого духа, факт моральный или «спириту-альный» в самом подлинном и самом позитивном смысле слова. Именно этот характер обращения Толстого к Богу придает ему особое и глубокое философское значение.
Еще другой великий религиозный вопрос, другую страшную метафизическую загадку поставил своей жизнью пред нами Толстой.
Толстой не только восстал на красоту. Все мы знаем, что он не только бесчувствен к К у л ь т у р е, но и прямо ей враждебен. Именно — культуре, а не только «цивилизации», Шекспиру и Гёте и всей современной науке и технике, а не только кинематографу и авиации. Почему «культура» побеждает и подчиняет все ему дорогое «простое», «мужицкое»? Толстой понимал, что дело тут не в простом внешнем насилии, что корень зла лежит глубже. Он понимал, что культура есть с и л а. Но у Толстого, как религиозного мыслителя, нет ни малейшего тяготения и почтения к человеческой С и л е. В ней он не видит ничего божественного. Для него Сила, так же как и Красота, есть начало злое, дьявольское. Добро и Бог для него всецело исчерпываются и поглощаются началом Любви, и началу Силы, как началу положительному, в его религии, так же нет места, как и началу Красоты. Сила для него в нравствен-
* Ср. в этой книжке статью И.Ф. Наживина о его недавних беседах с Толстым.
168
ДОКЛАД
П.Б. Струве. Жизнь и смерть Льва Толстого
ном смысле всецело сливается с насилием, т.е. с грубым откровенным принуждением одного человека по отношению к другому. Сила если не тождественна, то равноценна с насилием.
Так ли это? Другими словами: как Добро связано с Силой? Отрицательно или положительно? Есть ли Сила или, точнее, превосходство в Силе просто факт, или оно указует на нечто основное, метафизическое, а потому имеющее и огромный моральный смысл? Совершенно ясно, какое значение имеет этот вопрос для моральной оценки всей современной культуры и культуры вообще и как из различного отношения к Силе вытекает различная оценка культуры. Моральная проблема Силы еще более, чем моральная проблема красоты, есть как бы та загадочная метафизическая бездна, в которую пред пытливым философским взором расширяются все предельные проблемы современности: социализм (равенство неравных по силе!), вечный мир (отказ от войны!), национальный вопрос (есть ли национальное самоутверждение нравственная правда или, наоборот, неправда?) и целый ряд других жгучих вопросов, волнующих современного человека. В конечном счете все эти вопросы таят в себе проблему Силы.
Великое религиозное значение Толстого состоит именно в том, что своей личностью и своей жизнью он с гениальной мощью поставил пред современным человечеством эти основные проблемы мирового и человеческого бытия.
И как бы мы ни решали, как бы человечество в своей коллективной жизни, которая, по слову самого Толстого, есть «столкновение бесчисленных произволов», ни решало эти проблемы, — Толстой в своей суровости и прямолинейности дал нам великие уроки такой последовательности и честности мысли, от которой человечество почти отвыкло.
Он подверг своему суду не частности и выводы, а основы и посылки всей современной культуры и культуры вообще. В этом отношении — да и не только в этом — Толстой подлинный восстановитель христианства. И подобно христианству он моральному и религиозному сознанию человечества принес «не мир, но меч». И оскорбление памяти Толстого, думается мне, будет заключаться не в том, что мы мужественно и сознательно отвергнем его «меч», а в том, что мы из поклонения перед его личностью, по нравственной дряблости и умственной трусости, станем притуплять толстовский «меч» и обратим это страш-
169
16.XI.1910
П.Б. Струве. Жизнь и смерть Льва Толстого
ное орудие морального рассечения и духовного прояснения в безобидную игрушку, служащую для жалкого примирения непримиримого и, хуже того, для лицемерного затемнения подлинной остроты загадок нашего нравственного и общественного бытия.
II. Смысл смерти Толстого
«Мне очень хочется увидеть Толстого, хотя и боязно. Это какое-то существо громадное и страшное, прожившее не одну, а несколько человеческих жизней и притом таких, которые странно и страшно прожить одному человеку». Так писал я А.А. Стаховичу, когда мы условливались с ним относительно совместной поездки летом 1909 г. в Ясную Поляну. До 1909 г. я никогда не видел Льва Толстого, и я почувствовал, что должен его видеть. Я понимал, что скоро это будет невозможно.
Самое сильное, я скажу, единственное сильное впечатление, полученное мною от этого посещения, можно выразить так: Толстой живет только мыслью о Боге, о своем приближении к нему. Он уходит отсюда — туда. Он уже у ш е л. Телесно он одной ногой в могиле, потому что ему 81 год, но он может еще прожить немало дней, месяцев и лет, ибо тело его еще не разрушилось, способен же он чуть не каждый день ездить верхом, что для многих из нас, вдвое его моложе, не только трудно, но и прямо непосильно. Но душевно и духом он там, куда огромное большинство людей приходит только через могилу, незримо и неведомо для всех других. А он ушел, и я это видел, чувствовал о нем и с ним. И в то же время я видел его. В этой очевидности ухода из жизни живого человека было нечто громадное и для меня единственное.
В беседе со мной Толстой между прочим сказал: «неудивительно, что мы с вами несогласны, ведь я более чем вдвое старше вас». Помнится, я ничего не ответил на это замечание, помнится, только взглядом я выразил, что понимаю его, ибо я чувствовал, что в эти слова сам Толстой вкладывает не простое указание на свою старость, а то самое ощущение нескольких прожитых им жизней, с которым я, думая о нем, направлялся в Ясную Поляну.
Прожить так много, разве это не значило выйти из жизни? Но в то же время означал ли этот выход из жизни, что Толстой уже являл собой мертвеца, что от него веяло смертью и тленом?
170
ДОКЛАД
П.Б. Струве. Жизнь и смерть Льва Толстого
Нет, ибо с ним произошло нечто редкое и великое. Прожив несколько огромных жизней, он из жизни вышел живым. Я ощутил это тогда, в первый и последний раз увидав лицом к лицу Толстого. Я окончательно понял, осознал это, когда пришла весть об уходе его из Ясной Поляны, когда мы все с тревогой узнали, что его стережет телесная смерть. Выйдя живым из жизни, духовно преодолев телесную жизнь, он мог пойти и радостно пошел навстречу телесной смерти. Будучи вне «жизни» в здешнем, ограниченном смысле, он стал неподвластен «смерти», он ее «попрал».
Когда в зимнюю ночь Толстой «бежал» из Ясной Поляны130, он уходил не от семьи и обстановки, не от собственности, барства и жизненного комфорта к простоте и скудости «мужицкой», «трудовой» жизни. Он думал, конечно, и об этом, но это не была его главная мысль. Не толстовство в смысле учения о земной «жизни» осуществлял он в своем «уходе». Земных целей этот уход не преследовал и не мог преследовать. Не «Царства Божия на земле» искал 82-летний старец. Он уже тогда поднялся над «жизнью» и «смертью», ибо пошел к Богу.
Его смерть, поэтому, так исключительна и значительна. В ней, кроме физиологического состава умирания, не было смерти. Для меня это не «фраза», не «построение», для меня это очевидный психологический и религиозный факт.
Очевидный, ибо я его видел. Я видел не физическое умирание Толстого, не естественный физиологический факт, а таинственное религиозное преображение. Я видел воочию и с трепетом ощущал, как живой Толстой стоял вне «жизни». И так же, как я считал своим долгом при жизни Толстого молчать об этом, так теперь, перед всеми здесь собравшимися, объединенными одной мыслью и одним чувством — религиозно почтить отошедшего Толстого, я считаю своим долгом свидетельствовать об этом великом факте его религиозной жизни. Великом, ибо тут была одержана труднейшая победа, тут совершилось величайшее торжество — человека над смертью.
ЗАСЕДАНИЕ 22 НОЯБРЯ 1910 г.
В.Ф. Эрн
Основной характер русской философской мысли и метод ее изучения
Тому, кто захотел бы написать историю русской философской мысли, придется побеждать немало трудностей.
Трудности эти двоякого рода: общественно-психологические и философски-методологические.
Тип скитальца, чуждого родной стране, до сих пор жив в нашей крови. В огромной массе русской интеллигенции, поставляющей рядовых работников журналистики, науки и культуры вообще (а рядовое всегда количественно преобладает), живет постоянная, неискоренимая подозрительность ко всему своему. Двухвековое ученичество у Запада создало особую, глубоко залегшую складку в нашей общественной психологии. Мы заранее, так сказать априорно, до всякого фактического исследования, с к л о н -н ы отдавать предпочтение всему, что не наше, преклоняться восхищаться и увлекаться всем пришедшим издалека. У нас не хватает внимания к нежным, оригинальным и обильным всходам нашей собственной культуры, и можно смело сказать, нет другой культурной нации в мире, которая бы так мало сознавала свои духовные богатства, так мало ценила возможности, ей предстоящие, как Россия.
Русская философская мысль имеет не только гениальных и глубоко талантливых представителей, она в корне, в основной тенденции своей с у щ е с т в е н н о оригинальна. В целом мировой философии русская мысль занимает особое место, свойственное ей, как явле-
172
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
нию sui generis, как созданию творческого духа. Но мы до сих пор не имеем ни одной книги по истории русской философии и очень мало исследований и даже статей, посвященных отдельным русским мыслителям. Для многих самое соединение слов «русская философия» кажется странным, потому что они никогда не слыхали, что в России более столетия существует оригинальная философская мысль. Из всех русских мыслителей посчастливилось больше всего Соловьеву. О нем кое-что знают в широкой публике; о нем написано немало хороших статей; но и ему не посвящено ни одной монографии, в которой его многогранный гений получил бы целостное освещение, не искаженное случайностью точки зрения. Нужно ли говорить, что положение такое ненормально? Нужно ли говорить, что пренебрежение к своему прошлому и настоящему, основанное на незнании и невежестве, есть одна из самых печальных черт нашей общественной психологии?
Кто хочет восстать против традиции малодушного само-пренебрежения и систематического само-забвения, тот встретит неизбежное равнодушие и неизбежное невнимание. В этом невнимании, заранее чувствуемом, заранее предусматриваемом, и состоит общественно-психологическая трудность быть историком русской философской мысли. Но трудность эта более или менее легко победима. Предрассудки н е д о л ж н ы приниматься в расчет. Стесняя лишь внешним образом, они не могут воз-действоватьна внутреннюю свободу исследования, которое идет своими путями в полной независимости как от общественной атмосферы, так и возможного равнодушия и невнимания.
Гораздо серьезнее трудность вторая: ф и л о с о ф -ски-методологическая.
Каким методом пользоваться? Какую общую точку зрения положить в основу исследования?
История общая не имеет своей методологии. Ее только хотят или хотели бы иметь, и нет до сих пор ни одной философии, которая бы осмыслила и сделала возможной ту теорию исторического познания, которой бессознательно пользуются все историки и осознать которую не могут до сих пор ни историки, ни философы. Теория познания Канта, несмотря на всю противоречи-
173
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
вость свою царящая в современной философии, является грандиозной попыткой философского обоснования е с -тественно-научного познания. Проблему же исторического познания она игнорирует и не может не игнорировать, ибо с точки зрения кантовской философии историческое познание по существу невозможно. Познание естественно-научное есть для Канта продукт приложения общих категорий и правил рассудка к сырому материалу ощущения. Что соответствует этому в историческом познании? Какой сырой материал о щ у щ е -н и й может быть констатирован нами в наших представлениях о Цезаре или Рамзесе Великом? Применением каких общих категорий мы можем прийти к познанию неповторимой и единственной, не данной нам ни в каком теперешнем нашем опыте, личности Петра Великого или Сократа и Франциска Ассизского? Или познание это невозможно (но оно ведь есть, в таком же смысле, как есть естественно-научное познание), или же возможность его обоснования должна быть связана с философией, принципиально отличной от философии Канта. Виндельбанд и за ним Риккерт131 подходят к этой проблеме, оставаясь в узких пределах теории познания Канта. Вот отчего весь результат их рассуждений сводится к ф о р м у л и р о в к е различия между науками номотетическими и науками идеографическими, но они не дают и по общему смыслу своих воззрений не в силах дать п о л о ж и т ельного обоснования философской возможности идеографического, т.е. исторического познания.
В мою задачу сейчас не входит развивать свои взгляды на теорию исторического познания. Сказанным я лишь отмечаю, что до сих пор нет сколько-нибудь разработанной теории исторического познания. А так как сознательная методология, строго соответствующая духу и своеобразию исторической науки, может вырасти лишь на почве уже созданной теории исторического познания, то в исследовании характера и значения русской философской мысли нельзя руководиться какой-нибудь готовой методологией. Химик или физик, приступая к какому-нибудь частному анализу, должны подчиняться строго определенным методам. Т а к и х м е тодов у нас н е т — это мы должны сказать, если хотим быть философски-искренними. Мы сами должны создать
174
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
руководящую точку зрения, т.е. тот общий метод, которым будем разрабатывать все относящиеся к нам материалы.
Эта руководящая точка зрения есть у к а ж д о г о историка. Отсюда неизбежный субъективизм всякого исторического исследования. Одни сознательно или бессознательно скрывают свои общие точки зрения. Но от этого субъективизм только увеличивается. Ибо вместо общего субъективного освещения мы тогда получаем искаженное восприятие и в искаженном восприятии уже субъективно истолкованными те э лементы,тесырыеи мелкие факты, из которых создаются более общие картины исторического в о с п р о и з в е д е н и я . Отсутствие общей точки зрения всегда м н и м о и потому гораздо более опасно, чем наличность самых субъективных, но сознательно высказанных общих принципов исследования.
Материалы становятся материалами только при какой-нибудь точке зрения. И при абсолютном отсутствии точки зрения материала не может быть в таком же строгом и абсолютном смысле, в каком не может быть цвета при абсолютном отсутствии глаза. Эта точка зрения, разная у разных историков, предваряя всякое изучение и будучи неизбежным условием данности исторического материала, не может быть ни доказана самим этим материалом, ни отвергнута. Ее доказательность во внутренней ее силе, в философской ее правде и объективности; в этом смысле нет и не может быть такого исторического исследования, которое было бы внешне обязательно для всех в своих результатах. И слепы, философски н е отчетливы теисторики, которые так наз<ываемым> документальным исследованием хотят установить или отвергнуть к а к и е -нибудь метафизические или религиозные факт ы. Кому эти факты внутренне даны, тот видит их и в лежащем пред ним сыром материале. Кому они не даны, тот их не видит. Нужно бросить раз навсегда наивные препирательства в плане так называемого документального исследования и понять, что глаза разноустроенные неизбежно будут и разно видеть и то, что для одного — самый настоящий факт, для другого — самый настоящий не факт. Как для глаза, не вооруженного микроскопом, не факт то, что является самым позитивным и
175
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
самым объективно-данным фактом для глаза, вооруженного микроскопом, так точно историк, лишенный, напр<имер>, эстетической проницательности, при нахождении какой-нибудь вазы или обломка древнего бога совершенно не в состоянии увидать те факты эстетической одаренности или бездарности, примитивности, или высокой развитости о которых безусловно прямо говорят эти остатки историку эстетически проницательному. У кого же субъективизма больше? Конечно, у историка, эстетически непроницательного, ибо действительность является ему в более обедненном виде, чем историку, эстетически проницательному, ибо он лишен органов восприятия того, что фактически дано не менее реально, чем микроскопические подробности, видимые вооруженным и невидимые невооруженным глазом.
Итак, метафизические или религиозные факты даны внутренно, а не внешне. Не они извлекаются из материала истории, а материал принимает ту или другую форму в зависимости от той или иной данности этих фактов. Неданности этих фактов б ы т ь н е м о -ж е т. Они всегда даны, даны всем только в различной форме. Точка зрения сознательная или бессознательная, необходимо присущая каждому историку, непременно заключает в себе скрытую или явную, откровенную или лицемерную м е т а ф и з и к у и ту или иную систему верований. Моммзен верит в цезаризм132 — это одновременно и политическая доктрина и верование, Белох верит в примат экономики133, — Бокль или Гизо в прогресс134. Если мы возьмем такого глубоко талантливого и всесторонне одаренного историка, как В.О. Ключевский, местами производящего впечатление гениальности, мы найдем у него целую систему связных социологических и философско-исторических утверждений135, положенных в основу изложения и неприемлемых для историков другого социологического направления или других философско-исторических взглядов.
Говоря о коренной субъективности метода, я принципиально отличаю от него технику исторического исследования, которая, включая в себя субъективные моменты (напр<имер>, суждения о достоверности тех или иных сообщений), носит в общем характер сравнительной
176
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
объективности. Такие правила, как: в исследовании должен быть использован весь доступный материал, или: каждое утверждение историка должно находиться в с о глас и и с удостоверенными материалами, или: излагая чье-нибудь воззрение, историк все время должен опираться на подлинный т е кст, — эти элементарные правила относятся к технике исследования, обязательной для всех, и при самом строжайшем выполнении всех технических правил исследования, вопрос о методе остается совершенно открытым.
Общая точка зрения, таким образом, во всяком историческом исследовании — вне-исторична, т.е. вне-научна.
Отождествляя метод с общей точки зрения, я следую смыслу греческого слова: ^гбобод1. Это слово значит в сопутствии каких идей нужно рассматривать материал, какая о б щ а я м ы с л ь должна освещать тьму и хаос сырых данных. От освещения и от точки зрения зависит тот в и д , в котором предстанет пред историком сырье документов, а этот вид определит с п особ дальнейшей обработки. Метод поэтому есть детализация общей точки зрения и конкретное осуществление на материалах тех способов в и д е н и я , которые уже потенциально вложены в самую точку зрения. Так, самые строгие методы естествознания суть детализация общей механической точки зрения, и как, с одной стороны, лишаются смысла вне этой точки зрения, так, с другой стороны, будучи лишь развитием этой точки зрения, неизбежно дают результаты, во всех частях ею предопределенные.
Итак, обрисовать метод — это все равно, что обрисовать общую точку зрения.
Какова же эта общая точка зрения?
Если, минуя детали, мы сосредоточимся на главных и основных тенденциях новой европейской философии, три характерных черты остановят наше внимание.
Это рационализм, меонизм, имперсо-нализм.
Философский разум новой европейской мысли в самом начале сделал попытку отождествить себя с ratio11. Это самоопределение разума в смысле отождествления себя с ratio имело необычайно важные последствия; оно было
I Исследование, метод (греч).
II Рассудок (лат.).
177
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
коренным, фатальным, предопределило собой все дальнейшее развитие новой философии*.
Что такое ratio? Это среднее арифметическое между разумами всех людей. Здесь разум берется в том виде, в каком он действителен у большинства. Потенциальные глубины разума намеренно оставляются в стороне. Качество разума берется не во всем объеме, а лишь в том, какой свойствен и реально дан большинству. Принцип количественный, одолевая и первенствуя, урезывает в этой концепции качество разума с двух сторон: и снизу, и сверху. Ratio отрекается как от темных природных к о р н е й разума, питающихся древним родимым и зиждительным х а осом космической жизни, так и от светлых, но скрытых от большинства, вершин разума, объемлемых благодатной и умиренной лазурью неба. Это двойное отречение от Земли и от Неба накладывает на рационализм печать необычайной сухости в отвлеченности. Отречение от Земли обусловило огромной важности разрыв между мыслью философов и мыслью поэтов. Разум поэтический стал в небывалое противоречие с разумом философским. Если для Платона iavia поэтов, т.е. безумие поэтического вдохновения было началом священным и умудряющим, если собственное философствование Платона еще дышало живой гармонией между началом индивидуального Аоуод'а и началом народного [ЛЮод'а; если для Данте святыня его поэтических постижений легко и безболезненно сочеталась с философским разумом эпохи, то уже разум Декарта не может признать прав поэтического постижения действительности ни в какой степени. Для ratio Декарта поэзия только вымысел, и потому только забава и развлечение. «Природа не развлекается поэзией», говорит Галилей. La natura non si diletta di poesie. Но если поэзия вымысел, то вымысел и все то в человеческих переживаниях и в человеческом отношении к действительности, что воспе-
* Оговорюсь: я беру новую философию в ее главном русле. Для меня важна магистраль новой философии, т.е. та ее линия, по которой она двигалась и развивалась. В этом смысле Декарт или Кант бесконечно характернее для новой философии, чем Бёме или Баадер, ибо последние, во-первых, отрицаются магистралью новой философии, во-вторых, по существу являются продолжением средневекового умозрения и античного и ничего н о в о г о в себе не заключают. Они новы, как ново все гениальное, но содержание их старое и давно известное.
178
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
вается поэтами, в чем человек, лишенный поэтического дара, становится поэтом в самом акте переживания.
Wahrheit, т.е. правду, вещает нам только ratio, и потому все вымысел, кроме рационального.
Отречение от Неба обусловило другую черту рационализма: его с у щ е с т в е н н у ю иррелигиозность. Традиция во внешнем смысле, соединенная с немалой долой лицемерия и трусости мышления, некоторое время питала иллюзию. Рациональная религия или религиозный рационализм казались возможными; рациональные и всякие доказательства бытия Божия, не удовлетворяющие теперь семинаристов, удовлетворяли такие огромные умы, как Декарт или Лейбниц. Иллюзии «рациональной теологии» были блестяще раскрыты «Критикой чистого разума», и после третьего отдела трансцендентальной диалектики нам кажется излишним доказывать принципиальную иррелигиозность ratio.
Таким образом — сверху и снизу наметились заветные границы. Все, что за ними, то иррационально, т.е. враждебно ratio и потому должно быть отвергнуто. Вольтеровское ecrasez l'infame1, могущее быть отнесенным как к тайнам религии, так и к тайнам природы, патетически вытекает из самой сущности рационализма.
Исторической причиной такого фатального самоопределения философского разума нового времени — была борьба с мистическим началом Средневе -ковья. Вспыхнувший с огромною силой индивидуализм, чтобы выбраться из могучих и властных рук католической Церкви, должен был искать себе соответствующего оружия, и оружие это было найдено в рационализме. Человек захотел быть т о л ь к о ч е л о в е к о м , и для того, чтоб разум не мешал осуществиться этому желанию, новый европейский человек героическим самоопределением превращает его в ratio, из возможного врага и противника делает его своей базой, верной опорой, послушным орудием своего властного самоутверждения.
Так как самоутверждение это было массовым, коллективным, историческим, рационализм очень быстро стал господствующим типом мышления и последовательно распространился на все области мысли. Некоторые историки философии резко противополагают француз-
1 Раздавить гадину (фр.).
179
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
скому рационализму английский эмпиризм. Противоположение это мнимо, ибо данные опыта в английском эмпиризме обрабатываются тем же ratio, который в картезианстве обращен на свои врожденные свойства. И там и тут органом познания является ratio, только в первом случае он рассматривает данные внешнего опыта, во втором свою внутреннюю организацию. Вот и вся разница. Локк или Юм — рационалисты такого же чистого типа, как Декарт или Спиноза, и «панлогизм» Гегеля или многочисленные формы позитивизма конца X1X века не менее рационалистичны, чем философия Лейбница или Вольфа.
Вторая основная черта философии нового времени, — меонизм (if 6v — не сущее); и эта черта с диалектической необходимостью вытекает из самой сущности рационализма. Мальбранш дает прекрасную формулировку основоположению картезианства: «рассудок не судит, судит лишь воля»136. Т. е. рассудок в себе пассивен, инертен. Он только мертвая схема суждения, приводимая в действие силами посторонними, и потому схема эта мертва. Схематически ratio, лишенный начала движения, живого контакта с rerum natura1, не может быть признан истинным самоопределением живой и автономной человеческой мысли. Он в себе не живет, а живет лишь в ложной рефлексии новой философии. Существо его призрачно, меонично. Он как марево восстает из недр исторического самоутверждения, породившего и порождающего рационализм, и как марево околдовывает мнимой очевидностью мысль. Чары этой очевидности велики для индивидуального сознания, ибо корни рационалистического марева социальны и даже кос-мичны, но от этого существенная призрачность рационализма нисколько не уменьшается.
В рационализме самый орган познания — меоничен. Вот отчего последовательный рост рационализма и все увеличивавшееся сознание единодержавия и исключительного значения ratio сопровождалось замечательным и единственным в истории мысли процессом универсальной систематической д е р еализации познаваемой действительности. Рационализация познания сопровождается, как тень неотступной и неизбежной, меониза-
1 Мироздание (лат.).
180
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
цией. Ratio, тая в своей призрачной сущности все растущий мираж, последовательно захватывая в свою власть одну область мысли за другой, делал все более зримыми и различимыми все детали исторического марева, восставшего над человечеством, но в то же время все глубже порабощал мысль неотступной данностью этого марева, превращая его в единственную, философски и научно признанную действительность и объявляя всю подлинную действительность, не вмещавшуюся в рамки рационализма, не существующей, недействительной, относящейся к области субъективного вымысла.
Кому диалектика моя покажется неубедительной, тот пусть заглянет в истории новой философии. Бэкон и Декарт, первый — провозглашением утилитарного господства человека над Природой, второй — превращением Природы в б е з душный механизм были главными провозвестниками того принципиального отречения от Природы, как Сущего, которое является основным фактом, отделяющим глубочайшим образом новое время от Средних веков и античности. Бэкон и Декарт, производя исторический сдвиг новой европейской мысли, и не предчувствовали, что закладывают фундамент колоссального м е о нического мифа* о познаваемой действительности, который в течение нескольких веков почти безраздельно царил над умами Европы, и господство которого только теперь начинает вызывать пока робкие протесты. Бэкон и Декарт были уверены, что их отречение от Природы, как Сущего, не изменяет дела, и видимая действительность остается непоколебимою реальностью навсегда. Эта наивная уверенность была великолепно осмеяна последующим развитием европейской мысли. Так, Беркли, одновременно с Норри-сом и Колльером137, принужден был из Декартовских посылок сделать необходимый и парадоксальнейший вывод: картезианской м а т е рии, столь возлюбленной анг-лиским эмпиризмом в лице Локка, не существует. Материя — призрак, меон, и весь материальный мир существует ровно настолько, насколько воспринимается.
Для Беркли действительность внешнего мира была вторичной и производной. Подлинно и первично существуют субстанциональные конечные духи, восприни-
* Об этом см. «Беркли и имманентная философия» в моем сборнике «Борьба за Логос».
181
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
мающие внешний мир и Дух Бесконечный, т.е. Бог, в определенном порядке вызывающий восприятие этого мира в конечных духах. Но Юм, подвергнув неизбежному и такому же точно анализу душевную субстанцию, какому Беркли подверг материальную, пришел к аналогичному выводу. Душевной субстанции нет. «Я», т.е. личность, такой же призрак, такой же меон, как материя. А так как Юм не с меньшей силой, чем Кант, в своих «Диалогах о религии» показал, что и Бог для чистого ratio совершенно проблематичен, то вторичную производную реальность не из чего было выводить. Внешний мир дан душе человека, представляющей из себя пучок перцепций, связанных законами ассоциации, которые в свою очередь базируют лишь на Привычке. Этот меони-ческий миф о действительности, столь пышно расцветший в английском эмпиризме, был, можно сказать, принципиально завершен трансцендентализмом Канта, и, если мы всмотримся в современную европейскую философию, почти всецело находящуюся в фарватере кантианства, мы увидим, что вся она дышит отравленной атмосферой универсального меонизма.
Третья черта новой философии и м п е р сона-л и з м. И эта черта с диалектической необходимостью вытекает из сущности рационализма. Понятие ratio конструировалось в принципиальной отвлеченности от всех индивидуальных богатств и особенностей живой человеческой л ичности. Личное начало для чистого ratio по существу иррационально, и потому все рациональное должно быть мыслимо вне к а т е г о рии личности. Имперсонализм, означающий склонность и навык мыслить всю совокупность действительности в принципиальном отвлечении от категории личности, должен был все познаваемое подчинить исключительному господству категории в е щ и . Все содержание мысли должно было рассматриваться sub specie1 «вещности». Но «вещь», как результат отвлечения от всего живого, индивидуального и внутреннего, может быть признана рациональной лишь в узких пределах ее м е х а нических свойств. Отсюда неизбежный союз рационализма с механистической точкой зрения; Декарт подчиняет этой точке зрения rem extensam, т.е. внешний, материальный мир. Res cogi-
1 Под видом (лат.).
182
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
tans с такой же последовательностью постепенно механизируется последующей европейской мыслью, и уже в теориях Гертли и Пристли138 вполне и исключительно укладывается в схему механизма. Но как быть с личностью человека, непосредственно данной и всем известной? Раз она не может быть объяснена рационально, тем хуже для нее. Значит, она не существует, значит, она только призрак, только меонический «пучок перцепций». Она должна эмигрировать в область искусства, мистики и положительной религии, а в пределах порядочной и честной рационалистической философии места ей нет. Формальное отлучение, так сказать, философскую анафему личности, произнес Юм и, произнесши, окончательно успокоился, ибо отныне вся совокупность мыслимого стала насквозь рациональной, и рационалистическая мысль по всему уравненному и подчищенному полю «действительности» могла беспрепятственно кататься и перекатываться, как кегельный шар на ровной площадке.
Имперсонализм, как исключительное господство категории вещи, неизбежно приводит к строго и всесторонне детерминистической точке зрения. Понятие с в о -боды окончательно поглощается понятием универсальной необходимости, подчиняющей безусловно все процессы действительности. Если Мальбранш, например, был горячим сторонником свободы, то — в полном противоречии с основоположениями своей собственной философии. Декартовская философия существенно детерми-нистична. И только Кант с титанической силою заговорил о свободе. Значение метафизической философии Канта, как философии свободы, столь гениально продолженной Шеллингом, безмерно. К сожалению, в целом новой и современной философии метафизическое учение Канта о свободе, равно как и философию Шеллинга, мыдолжнысчитатьвсеголишьэпизодом,говорящим многое о гениальности Канта и Шеллинга, но оставшимся «гласом вопиющего в пустыне». Рационалистический трансцендентализм Канта, исполненный противоречий и недомолвок, нашел в современной философии целую толпу последователей. Голос же Шеллинга, восторженно встретившего и продолжавшего учение о свободе Канта, окончательно заглушен и забыт философской Европой. Выход из категории вещи в категорию личности, наме-
183
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
ченный гением Канта, совершенно не использован, и им-персонализм господствует в современной философии не меньше, <чем> в до-кантовской философии.
Итак: рационализм, меонизм, имперсонализм — вот три черты, характеризующие новую европейскую философскую мысль.
Задать вопрос: эта мысль является ли основным и единственным типом возможного философствования? — все равно что спросить: является ли ratio единственным органом философского познания?
Уже из предыдущего изложения видно, что для нас рационализм не может быть признан единственным типом правого философствования. Если ratio новой европейской мысли мы противопоставим Абуод'у античности, давшему богатые плоды на почве восточно-христианского умозрения, мы сразу почувствуем всю условность и, так сказать, волевую предвзятость ново-европейского рационализма.
Абуод, впервые осознанный великими греческими мыслителями, с необычайной любовью был усыновлен и «натурализован» христианским умозрением, столь пышно расцветшим на эллинизированном Востоке. Имея в виду «логизм» гениальных отцов церкви, органически выросший из античного зерна Абуод'а, я попробую охарактеризовать основные черты философии Абуод'а.
Что такое Абуод?
Абуод есть такая же попытка принципиального самоопределения мысли, как и ratio; и как существенные черты рационализма с диалектической необходимостью вытекают из основного самоопределения разума в качестве ratio, так существенные черты «логизма» с такой же диалектической неизбежностью вытекают из основного самоопределения разума в качестве Абуод'а.
Если рационализм берет разум в среднем разрезе, отсекая низы и верхи, то логизм берет разум в целом, бережно относясь как к темным корням разума, уходящим в хаос природной жизни, так и к священным вершинам разумного сознания, охваченным экстазом созерцания, горящим пламенем коренного прозрения. Беря разум как целое, логизм неизбежно базирует себя на принципе качественном, сознательно устраняясь от всякого подчинения принципу количественному. Целое
184
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
разума реально далеко не у всех, скорее ни у кого, и людскому сознанию не столько дано, сколько задано. Оно присуще всем лишь потенциально, но для того, чтобы 6uv&|i£i ov разума перешло в evepyeia 6v, недостаточно простого факта принадлежности к виду homo. Если человек, в силу того что он человек, не может, так сказать, «из себя» осознать Principia Ньютона139, и потребна огромная р а б о т а для того, чтобы картина ньютоновского понимания мира стала понятна мозгам, ничего ранее о ней не знавшим, то для того, чтобы из косного и грубого фактически данного человеческого разума сделать тончайший орган чуткого постижения безмерного содержания космоса, нужна работа и нужен пламень, подобные тем, которые необходимы для превращения темного и упорного железа в самосветящийся, огненный и мягкий материал, послушный ударам кующего молота.
Характер работы вытекает из самой сущности Абуод'а.
Сущность Абуод'а метафизична. Это не субъективно-человеческий принцип, а объективно-божественный. 'Ev apxfl fv 6 Абуод1. В Нем сотворено все существующее и потому нет ничего, что не было бы внутренно, тайно себе, проникнуто Им. Абуод есть принцип имманентный вещам, и всякая res11 таит в себе скрытое, сокровенное Слово. И в то же время Абуод извечно существует в Себе. Сотворенный в Нем мир символически знаменует Ипостась Сына, уходящую в присносущую тайну Божества. Отсюда онтологическая концепция истины, чрезвычайно характерная для логизма. Истина не есть какое-то соответствие чего-то с чем-то, как думает рационализм, превращающий при этом и субъект и объект познания в двух м е о н о в . Истина онтологична. Познание истины мыслимо только как осознание своего бытия в Истине. Всякое усвоение истины не теоретично, а практично, не интеллектуалистично, а волюнтаристично. Степень познания соответствует степени напряженности в о л и , усвояющей Истину. И на вершинах познания находятся не ученые и философы, а святые. Теория познания рационализма статична, — отсюда роковые пределы и непереходимые грани. Тот, кто стоит, всегда огра-
I В начале было Слово (греч).
II Вещь (лат).
185
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
ничен какими-нибудь горизонтами. Теория познания «логизма» д и н а м ична.Отсюда беспредельность познания и отсутствие горизонтов. Но тот, кто хочет беспредельности ведения, кто стремится к неограниченности актуального созерцания, тот должен не просто идти, а восходить. И путь восхождения один: это лествица христианского подвига. Таким образом, «логизм» высшее свое осуществление находит в прагматике христианского подвига, явленной миру бесчисленными святыми и мучениками христианской идеи.
Динамичность «логизма» предполагает глубочайшее раскрытие личности. Логизм тоничен; т6vоg1, т.е. тембр внутренной напряженности, есть сфера обнаружения ирасцвета внутреннего своеобразия и богатств личного начала. Постигая в себе и предчувствуя негибнущее, вечное зерно, извечную мысль Божества, личность в атмосфере логизма естественно занимает центральное место, и если рационализм с его универсальной категорией вещи в лице Юма объявляет личность меоном, бессмысленным пучком перцепций, то логизм в с е существующее воспринимает в категории личности и чистую вещность мира считает лишь призраком, застилающим глаза падшего человека от истинно Сущего, от тайного Лика мира, не имеющего ничего общего с мертвой, меониче-ской концепцией вещи. В логизме Бог—Личность, Вселенная—Личность, Церковь—Личность, человек—Личность. И хотя модусы личного существования Бога, Мира и Церкви бесконечно превосходят модус личного существования человека и от него безмерно отличны, но все же человек в глубочайшей тайне своего личного бытия, в непостижимом зерне своей индивидуальности гораздо ближе и существеннее постигает модус существования Бога и Мира, чем применяя периферическое, совершенно бессмысленное и отвлеченное понятие мертвенной вещности.
Из сказанного с достаточной ясностью видно, что трем основным чертам новой европейской философии: рационализму, меонизму, имперсонализму, восточно-христианское умозрение противополагает: логизм, онтологизм и существенный, всесторонний персонализм.
Русская философия (к общей характеристике которой я теперь перехожу) всей значительностью своею
1 Напряжение, тон (греч).
186
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
и всем своеобразием обязана умопостигаемому месту, занимаемому Россией в чреде времен и пространств. Живая наследница Восточного православия, Россия в таинственной глуби своего народного существа носит нетленными и вечно живыми религиозные и умозрительные достижения великих отцов и подвижников Церкви*. Россия существенно православна, и логизм восточнохристианско-го умозрения, внешним образом не только в России, но и на Западе не изученный, есть для России в н у т р е н н о данное. И в то же время Россия приобщена к новой культуре Запада. Оставляя в стороне противоборствующие стихии в самой культуре Запада, мы можем сказать, что эта культура в основе своей «критична». Культура же христианская «органична». «Критичность» новоевропейской культуры философским коррелятом имеет рационализм. «Органичность» христианской культуры находит свое оправдание и философское завершение в логизме. Но рационализм существенно враждебен логизму. Он так же противоположен ему, как всестороннее Нет противоположно всестороннему Да. Эти начала могут находиться только в борьбе. Рационализм (в идее) съедает логизм и обратно. Всемирно историческая тяжба в области философского сознания может быть формулирована так: ratio против Абуод'а — Абуод против ratio; и вселенская задача философии сводится к всестороннему и свободному торжеству одного из этих начал над другим. Но, чтобы торжество всесторонней победы могло совершиться, для этого должна реализоваться свободная встреча двух исконных врагов. На Западе эта встреча невозможна, ибо нельзя побеждать логизм неосознанностью и бесчувствием. Историческим изучением логизм не усвоишь, а глубоко въевшийся в западную философскую мысль рационализм не позволяет мыслителям новой Европы д а ж е у в и -деть врага, осознать его как внутренно-данное; с другой стороны, восточнохристианское умозрение процветало за много веков до начала западноевропейского рационализма и потому, естественно, помериться с ним не могло.
Русская философская мысль, занимая среднее место, ознаменована началом этой свободной встречи, столь
* Ср. «Нечто о Логосе, русской философии и научности» и «Культурное непонимание» в «Борьбе за Логос».
187
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
необходимой для торжества философской истины. Внутренно унаследовав логизм и нося его, так сказать, в своей крови, Россия философски осознает его под н е -прер ы в н ы м р е а к т и в о м западноевропейского рационализма. Вот основной факт русской философской мысли. Историческая встреча и завершительная битва между началом божественного, человеческого и космического Абуод'а и началом человеческого, только человеческого ratio есть достояние и удел России. В будущее русской философии, призванной содействовать полноте завершительной битвы, можно лишь верить, и идти к нему, сознательно направляя все силы своего философствования, можно лишь под водительством философской Надежды. Но нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть, что русская философия, начиная с великого «старца» Сковороды, есть непрерывное и все растущее осознание стихии Абуод'а, осознание, совершающееся, как результат воздействия на русскую мысль все растущего и все более внимательного изучения западноевропейского рационализма. И нужно быть совершенно глухим, чтобы не слышать, что весь длинный ряд оригинальных русских мыслителей, начиная с XV111 столетия и до наших дней, переполняется все более явственными призывами непримиримой борьбы, борьбы во имя животворящего Абуод'а, с бездушными схемами рационализма; и только тот, кто почувствует эту борьбу, как священную тяжбу между коренными и глубочайшими основами человеческого сознания, сможет оценить все своеобразие русской философской мысли и понять ее необычайное внутреннее единство.
Для меня вся русская философская мысль, начиная со Сковороды и кончая кн. С.Н. Трубецким и Вяч. Ивановым, представляется цельным и единым по замыслу философским делом. Каждый мыслитель своими писаниями или своею жизнью как бы вписывает главу какого-то огромного и, может быть, всего лишь начатого философского произведения, предназначенного, очевидно, уже не для кабинетного чтения, а для существенного руководства жизнью. Несмотря на «пафос расстояния», отделяющий Вл. Соловьева от славянофилов, или Лопатина от Вяч. Иванова, между всеми (повторяю, оригинальными) русскими мыслителями есть какой-то «тайно обменен-
188
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
ный взгляд». Что-то единое видится и предчувствуется всеми представителями русского философского самосознания, и диалектика, искание жизнью, европейская образованность, варварская стихийность, чудачество и трагизм личных переживаний — все различными путями ведет к одному, и все различными тонами вливается в одно симфоническое целое. Я не говорю, чтобы не было разногласий. Разногласия есть и немалые, но разногласия эти диалектического характера, и снимаются более глубоким синтетическим устремлением.
Неоригинальные направления русской мысли (материализм, позитивизм, теперь неокантианство), будучи страстными отголосками западноевропейских философских настроений, каким-то роком обречены на фатальное бесплодие и невозможность что-нибудь т в о р ч е с к и порождать. Русская мысль бессильна творить в меониче-ской атмосфере западноевропейского рационализма — вот любопытный факт, достойный быть отмеченным. И русские мыслители, с жаром увлекавшиеся западноевропейским рационализмом, или переживали это увлечение, как переходный момент (Соловьев, Козлов), или же, оставаясь в нем навсегда и не творя в нем сами, служили против воли своей реактивом, возбуждавшим оригинальную русскую мысль к творческим обнаружениям. Они — только эхо, гулко воспроизводящее сильные и творческие движения западной мысли. В целом русской философии они играли роль возбудителей-хоров, которые своим прекословием вызывали энергическую и полную творчества палинодию главных героев русской философской мысли. Гигантскому молоту европейского рационализма, кующему русское самознание на исторической наковальне, воздвигнутой гением великого Петра, они расчищают почву, и тем, неведомо себе, служат цели, ими сознательно отвергаемой. В этом их своеобразное, хотя и небольшое, значение, долженствующее быть оцененным в полной мере историком, желающим набросать картину роста в России философского самосознания.
Умопостигаемо занимая среднее место между ново-европейским рационализмом и восточно-христианским логизмом, русская философская мысль, естественно, не могла и не может идти торными путями западноевропейского мышления. Кто подходит к ней с
189
22.XI.1910
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
стереотипными шаблонными критериями, тот забывает завет Тютчева, — могущий быть отнесенным к каждой великой стране:
...Россию...
Аршином общим не измерить!
И подходить к русской мысли, например, с трансцендентальной точкой зрения это все равно, что к значительной и величайшей скульптуре средних веков подходить с каноном античных ваятелей эпохи Перикла. Это значит не уметь различать глубоко ценные особенности и надевать на глаза матовые очки. Отсутствие систем, столь дорогих рационалистам, обыкновенно считается признаком отсутствия самостоятельной русской философии. Но я бы сказал, что отсутствие систем есть глубокозначительный признак устремленности русской мысли к логизму. Система всегда искусственна, а систематичность есть не что иное, как насильственное укладывание многообразий действительности в Прокрустово ложе данной точки зрения.
Систематичности рационализма логизм противополагает в н у т р е н н ю ю о б ъ е д и н е н н ость созерцания, и если в России мало или почти нет систем, то почти все русские мыслители обладают редким и исключительным единством внутренним. Монолитная цельность Сковороды, осуществившего гармонию исключительного соответствия характера и жизни мыслителя с т6vоg'ом и деталями его миропостижения, пронизанность жизни Печерина140 одною идеею, гранитная крепость убеждений Хомякова, музыкальное единство поэтических и философских прозрений Вл. Соловьева, делающее поэзию его лучшим компендиумом его философии, единый и светлый образ кн. С.Н. Трубецкого, одухотворенно учившего, одухотворенно жившего и умершего смертью немногих избранников, наконец, драгоценная цельность эстетико-философского миросозерцания Вяч. Иванова, органически выросшего из его «умозрительной» лирики, эти черты дробятся и переливаются с меньшей яркостью и на других представителях русской мысли, — Киреевском, Бухареве, Юркевиче, Машкине, Федорове, стоящих как бы в тени смирения141.
190
ДОКЛАД
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
Я не говорю, что русская мысль достигла своего апогея и уже прошла весь цикл своего развития; напротив, с моей точки зрения, все свершенное русской мыслью есть только н а ч а л о, и как бы ни было значительно это начало, т6vоg русской мысли устремлен в будущее, и потому русская мысль, уже немало давая, обещает большее, и свой окончательный смысл может выявить лишь при исполнении тех ч а я н и й, которыми она проникнута со своей колыбели и до наших дней.
Поэтому менее всего простительно и то пренебрежительное отношение к прошлому и настоящему русской философской мысли, которое распространено не только в нашем обществе, но и в нашей философской литературе.
Русскую философскую мысль нужно прежде всего изучить и, несмотря на равнодушие общества, несмотря на пренебрежительные заявления* некоторых наших философов, сделать прошлое русской мысли предметом т щ а -тельного и беспристрастного исторического исследования.
* Напр<имер>, А.И. Введенский. «Судьбы философии в России» // Во-пр<осы> ф<илософии> и псих<ологии>. Кн. 42. Или «Логос». Вып. 1. Введение.
Из газетных отчетов
В Религиозно-философском обществе
22 ноября состоялся доклад В.Ф. Эрна «Основной характер русской философской мысли и метод ее изучения».
Референт объяснил, что настоящий его доклад представляет введение к целому ряду его историко-философских работ, под скромным заглавием «Очерков по истории русской философской мысли». — Для многих самое сочетание слов «русская философия» кажется странным, — говорит референт, — так, двухвековое ученичество у Запада приучило нас искать и находить ценности лишь в источниках западноевропейской мысли. Между тем в России более столетия существует оригинальная философская мысль. В этой привычке «пренебрежения ксвоему» референт видит главную трудность для успеха своих работ среди русской интеллигенции.
Обращаясь к новой европейской философии, мы замечаем в ней, говорит докладчик, 3 характерные черты. Это — рационализм, меонизм и имперсонализм. Что такое ratio? Это — «среднее арифметическое между разумами всех людей». Качество разума в этой кон-
цепции урезано и снизу и сверху. Двойное отречение — и от земли и от неба. Это, с одной стороны, обусловило разрыв между мыслью философов и мыслью поэтов, с другой, создало иррелигиозность. Для Декарта поэзия — уже только вымысел, только забава. А после трансцендентальной диалектики Канта говорить об иллюзиях рациональной теологии уже не приходится. Исторической причиной ratio была борьба индивидуализма с католическою церковью в средние века.
Меонизм («me-on», не сущее) — дальнейшее следствие рационализма. — «Рассудок не судит, судит лишь воля» (Мальбранш), т.е. рассудок сам по себе пассивен, инертен, им двигают силы посторонние. Отсюда и создания его творчества есть не более как марево, мираж. Для Беркли уже нет физической субстанции, а для Юма — и душевной. Человеческая душа, по Юму, есть лишь «пучок перцепции». Современная философия вся дышит отравленной атмосферой универсального меонизма.
Имперсонализм — такое же следствие рационализма. Это —
192
ИЗ ГАЗЕТ
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
принципиальное отвлечение от категории личности. Все содержание мысли, по нему, должно рассматриваться sub specio «вещности». Протест Канта, а за ним Шеллинга, в пользу «свободы» остался на сей раз гласом вопиющего в пустыне.
Но неужели путь рационализма есть единственный путь философской мысли?
Нет, есть иной путь. Это — путь Логоса античности, давшего грандиозные плоды, на почве восточно-христианского умозрения. «Логос» есть такая же попытка принципиального самоопределения мысли, как и ratio. Но логизм берет разум в его целом и базирует на принципе качественного. Целое разума присуще всем потенциально. Все существующее логизм воспринимает за категории личности. В противоположность рационализму, меонизму иимперсонализму Запада, мы видим на Востоке логизм, онтологизм и универсальный персонализм.
Россия с православием унаследовала и восточный логизм, хотя и в зародыше, в потенции. В то же время она приобщена и к культуре Запада. И этим определяется положение и задача русской философской мысли.
Между началом ratio и Логоса неизбежна и необходима борьба. Для эффекта борьбы нужна встреча обоих противников. На Западе это невозможно.
В этом сведении противников для завершительной борьбы и состоит задача нашей русской философии. И эта задача от дней великого старца Сковороды и до наших дней сознается представителями оригинальной философской мысли. Неокантианство, позитивизм и пр. отголоски Запада на русской почве референт признает бесплодными.
В прениях принимали участие В.И. Иванов, С.И. Гессен и С.А. Алексеев. В. Иванов не желает видеть в докладе отрицания западной философии, но скорее противопоставление западной философии другой — восточно-мистической. Спорить о том, какая из этих двух философий заслуживает наименования философии, — бесплодно. В. Иванов приветствует в докладчике философа, призванного открыть нам сокровища восточной философии.
Противопоставление Логоса и ratio, по мнению С.И. Гессена, не представляет собою чего-то специфически русского, а известно и на западе. Но разница между пониманием отношения между началами на Западе (напр<имер>, у Гегеля) и у докладчика действительно имеется. Для Гегеля ratio есть необходимая ступень для достижения абсолютной ступени Логоса, точно так же, как в этике право есть необходимая и потому достойная ступень для достижения абсолютной ступени — любви (или конкретной нравственности). Докладчик же не признает ступеней, он хочет начать сразу с абсолюта, поэтому ratio для него враждебное начало, совсем как у Августина, объявлявшего <враждебным> все то, что не есть Царство Божие, т.е. культуру. В этом смысле и позиция Эрна антикультурна, его философия вне культуры, необходимо одностороння, лишена полноты культуры и тем самым не достигает цели. Ибо, просто отвергнув рационализм, невозможно его и преодолеть: преодолеть рационализм можно, только вобрав его в себя и указав ему его границы. Наконец, докладчик исходил из фантастического представления о западной философии, как до-кантианской, так и современной. Он просмотрел самую существенную черту современного неокантианства: введение
193
ИЗ ГАЗЕТ
В.Ф. Эрн. Основной характер русской философской мысли...
иррационального момента в философский рационализм и тем самым предание рационализму динамического бесконечного характера. По существу доклад Эрна повторяет буквально мысли Киреевского о необходимости преодоления западной философии чрез обращение к восточной мудрости. Но всякое повторение есть ослабление мысли. А уже Соловьев указывал на то, что вместо благих пожеланий и ссылок на неизвестную еще мудрость следовало бы обратиться к изучению этой мудрости. Но отряхнуть пыль с древних фолиантов труднее, нежели говорить
о превосходстве восточной философии над западной.
С.А. Алексеев согласен с основным тоном доклада. Докладчик только напрасно отрицает рациональный момент в философии. Без ratio невозможна никакая философия. Грех западной философии в ограничении рационализма, в односторонне-механическом понимании его, а не в признании рационального элемента. Вместе с докладчиком против В. Иванова Алексеев полагает, что восточно-русская философия противоположна западной, и что надо не мир нести, а меч.
ЗАСЕДАНИЕ 19 ЯНВАРЯ 1911 г.
А.А. Блок
Рыцарь-монах
Одно воспоминание для меня неизгладимо. Лет двенадцать назад142, в бесцветный петербургский день, я провожал гроб умершей. Передо мной шел большого роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой. Перепархивал редкий снег, но все было одноцветно и белесовато, как бывает только в Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне идущей впереди фигуры; на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко непохожа на окружающее. Рядом со мной генерал143 сказал соседке: «Знаете, кто эта дубина? — Владимир Соловьев». Действительно, шествие этого человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницей. Через несколько минут я поднял глаза: человека уже не было; он исчез как-то незаметно — и шествие превратилось в обыкновенную похоронную процессию.
Ни до, ни после этого дня я не видал Вл. Соловьева; но через все, что я о нем читал и слышал впоследствии, и над всем, что испытал в связи с ним, проходило это странное видение. Во взгляде Соловьева, который он случайно остановил на мне в тот день, была бездонная синева: полная отрешенность и готовность совершить последний шаг; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк, символ, чертеж. Одинокий странник шествовал по улице города призраков в час петер-
195
19.I.1911
А.А. Блок. Рыцарь-монах
бургского дня, похожий на все остальные петербургские часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом в неизвестную даль, не ведая пространств и времен.
В то время около Соловьева шумела уже настоящая слава, не только русская, но и европейская. Слава долетела до Петербурга, как всегда, в виде волны грязных лакейских сплетен и какой-то особой ненависти. В то время в некоторых кругах имени Соловьева не могли слышать равнодушно; то был синоним опасного и вредного чудака. Когда спустя некоторое время он пророчествовал о панмонголизме в зале Городской думы144, один известный мистик счел остроумным упасть со стула. Впрочем, и это было еще безобидным глумлением рядом с той ненавистью, с которой среднее петербургское общество как бы выпирало его из жизни, окончательно возмутившись неприличием его поведения. Он же проходил тогда уже в очевидном для зрячих и н о м образе, врезаясь в сердца своим острым, четким, нечеловеческим силуэтом. В это последнее трехлетие своей земной жизни он, кажется, определенно знал про себя положенные ему сроки; к внешнему обаянию и блеску прибавилось нечто, что его озаряло и стерегло. Исполнялся древний закон, по которому мудрая, хотя бы и обессиленная падениями и изменами жизнь, — старости возвращает юность. Издали светящаяся точка этой юности, как dva^vnoig1, как воспоминание о стране, из которой прибыл, которую забывал в пустыне жизни, — знаменует близость смыкания круга, близость конца, но не гибели, успения, но не смерти. Зрелые, деловые люди уважают смерть и готовы выразить свое сожаление о гибели; но успение и конец ненавистны им, потому что они освещают всю жизнь иным светом, в котором земные дела становятся подозрительны. Многие готовы сто раз твердить одно и то же о гениальности «Войны и мира», только бы замолчать успение и конец самого Толстого.
Ничего нового в этом, конечно, нет. Возражают на это обыкновенно, что нельзя заподозривать какие бы то ни было дела, когда дел вообще слишком мало. Это — возражение от слабости, но не от силы. Вл. Соловьев поистине делал великие дела в то время, когда казался деловым людям бездельником. Это и вызывало ненависть.
1 Воспоминание (греч).
196
ДОКЛАД
А.А. Блок. Рыцарь-монах
Ненависть, как всегда, вызывала поклонение. За шумом ненависти и поклонения не слышны были другие голоса, той и другому одинаково чуждые. Тогда шумно низвергали живого Соловьева и шумно идолопоклонствовали перед живым. Прошло десять лет, и обозначился новый век. Неужели и сегодня мы будем идолопоклонствовать перед усопшим, шумно забывая то, что стояло за ним?
Есть жуткое в юбилейных днях. Здесь легко торжествовать пошлости, имя которой — только з а б в е н и е. Слишком соблазнительно сияние юбилейного савана, под которым спит многими любимый, многим современный человек; и слишком приятны те картины его жизни и деятельности, которые сменяются перед нами поочередно, как бы на экране волшебного фонаря. Это — как бы флаги, маленькие знамена, на которые всякому нравится поглядеть в обычный воскресный день, в день забвения, размена великого на малое. На флагах написано: «Мы счастливы тем, что у нас был великий человек. Нам жаль, что его унесло беспощадное время». А вверху, над временем, праздно веет и шелестит незримое знамя с непонятной надписью. Все скажут: это — ночное небо, и на нем — «обыкновенные звезды».
Особенно блестящ и разносторонен образ покойного Вл.С. Соловьева. Оттого особенно ярки картины на экране волшебного фонаря. Но некоторые из нас сегодня устают и прячутся от юбилейного света. Они ревниво скрывают, даже друг от друга, что-то свое. Слова наши звучат в разреженном воздухе, они похожи на стук молотка по крышке пустого гроба; почему так? отверните край савана, поднимите крышку; в гробу никого нет — могила пуста.
Мы не найдем в этом гробу останков деятеля и человека, одинаково блестящего и дорогого для всех. Теперь, как десять лет назад, все признают большой талант, но многие остановятся в недоумении перед какой-нибудь стороной его деятельности. — Известная философская школа145 подвергнет сомнению систему мистической философии Вл. Соловьева по отсутствию в ней законченной теории познания. — Ни один стан публицистов не примет Соловьева без оговорок, уже по тому одному, что Соловьев утверждал «священную войну» во имя «священной любви»146; одни из нас, хотя и признают войну, но отнюдь не священную, а государственную — во имя политической розни; другие хотя и исповедуют
197
19.I.1911
А.А. Блок. Рыцарь-монах
любовь, но также не священную, а гуманную, отрицающую всякую войну в принципе. — Вл. Соловьев — критик? Он не заметил Ницше, он односторонне оценил Пушкина и Лермонтова147. — Вл. Соловьев — поэт? И здесь приходится уделить ему небольшое место, если смотреть на него как на «чистого» художника. — Остается Вл. Соловьев — человек. Тут — непомерное разнообразие картин; воспоминания и анекдоты до сих пор не сходят со страниц журналов. Какой же вывод можно сделать из этих противоречивых анекдотов о «странных» поступках и словах, особенно — о «странном», а для некоторых — страшном, хохоте148, который все вспоминают особенно охотно? Один вывод: Вл. Соловьев был очень симпатичный и оригинальный человек, однако с большими странностями, не совсем приятными, а иногда и неприличными; но так как все друзья его были тоже очень милые люди, — то они прощали этому романтическому чудаку его дикие выходки.
Я сделал выбор из худшего, что говорят и думают о Вл. Соловьеве. Образ крупного мыслителя и блестящего человека от этого не померкнет. Я хочу только показать, что у Соловьева — философа, публициста, критика, поэта и человека, всегда были и будут и враги и поклонники, то есть единодушного признания за ним этих качеств в полной мере — не было и не будет. Значит, празднование его земной памяти всегда легко может обратиться в обыкновенный юбилей, то есть в день забвения. Когда же пройдут еще десятилетия и над горизонтом философии и науки взойдут новые звезды, — «Вл. Соловьев» утратит свою жизненную ценность и станет архивным материалом для диссертаций историков философии. Так, по всей вероятности, думают многие; но если мы разорвем юбилейный саван и потушим юбилейный свет, — мы увидим иное.
Вл. Соловьев все еще двоится перед нами. Он сам был раздвоен в свое время — этого требовало его служение. С первого шага он жестоко скомпрометировал себя перед своим веком; век прощает все грехи вплоть до греха против Духа Святого, — он никому не прощает одного: измены духу времени. Вл. Соловьев слишком хорошо знал это ласковое чудовище — льстивое и страшное время. Он воспитал в себе две силы, два качества,
198
ДОКЛАД
А.А. Блок. Рыцарь-монах
необходимые для того, чтобы нападать на врага разом, с двух сторон. Один Соловьев — здешний — разил врага его же оружием: он научился з а б ы в а т ь время; он только усмирял его, набрасывая на косматую шерсть чудовища легкую серебристую фату смеха; вот почему этот смех был иногда и странен и страшен. Если бы существовал только этот Вл. Соловьев, — мы отдали бы холодную дань уважения метафизическому маккиавелизму — и только; но мы хотим помнить, что этот был лишь умным слугою другого. Другой — нездешний — не презирал и не усмирял. Это был «честный воин Христов». Он занес над врагом золотой меч. Все мы видели сияние, но забыли или приняли его за другое. Мы имели «слишком человеческое» право недоумевать перед двоящимся Вл. Соловьевым, не ведая, что тот добрый человек, который писал умные книги и хохотал, был в тайном союзе с другим, занесшим золотой меч над временем.
Забудем на минуту глубокого философа, замечательного критика и публициста, благодарного ученика фетовской поэзии и странного человека. Мы должны вспомнить сегодня того, к кому не идут ни юбилеи, ни ученые заслуги, ни анекдоты. Для этого необходимо устранить двойственность, забыть здешнего Соловьева, погасить огни, которыми ярко блистал его ум, и оборвать цветы, которыми нежно цвела его душа. Все живое — пусть разместится по-новому — под лучами иного, неземного света. Ведь волшебный фонарь жизни действительно потушен смертью и временем.
Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Н е п о д в и ж н о лишь солнце любви149.
Пока на юбилейном экране не пестреет больше богатая жизнь, — мы можем видеть встающий из тьмы новый, ничем не заслоненный образ. Здесь бледным светом мерцает панцырь, круг щита и лезвие меча под складками черной рясы. Тот же взгляд, углубленный мыслью, твердо устремленный вперед. Те же стальные волосы и худоба, которой не может скрыть одежда. Новый образ смутно напоминает тот, живой и блестящий, с которым мы расстались недавно.
199
19.I.1911
А.А. Блок. Рыцарь-монах
Здесь те же атрибуты, но все расположилось иначе; все преобразилось, стало иным, н е п о д в и ж н ы м; перед нами уже не здешний Соловьев. Это — р ы ц а р ь - м о н а х.
Что такое огромный книжный труд Соловьева на этой картине? Только щит и меч — в руках рыцаря, добрые дела — в жизни монаха. Что щит и меч, добрые дела и земная диалектика для того, кто «сгорел душою»? Только с р е д с т в о: для рыцаря — бороться с драконом, для монаха — с хаосом, для философа — с безумием и изменчивостью жизни. Это — одно земное дело: дело освобождения пленной Царевны, Мировой Души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса и пребывающей в тайном союзе с «космическим умом». Весь земной романтизм, странное чудачество — только благоуханный цветок на этой картине. «Бедный рыцарь» от избытка земной влюбленности кладет его к ногам плененной Царевны.
Этот новый образ и есть невнятно шелестящее знамя, чью надпись нам не прочесть в воскресный, пестрящий флагами, день. Простая надпись свидетельствует нам, что образ — не мечта, а действительность. Рыцарь-монах имел действительные видения.
Если мы прочтем внимательно поэму Вл. Соловьева «Три свидания», откинув шутливый тон и намеренную небрежность формы, вызванные условиями века и окружающей среды, откинув их так же, как откинули всю земную «прелесть» Вл. Соловьева, — мы встанем лицом к лицу с непреложным свидетельством. Здесь описано с хронологической и географической точностью «самое значительное из того, что случилось с Соловьевым в жизни». Поэма, напечатанная в томике стихов, изданном со всем демократизмом современности, ничем не отличается, по существу, от надписей прошедших столетий; сначала по-латыни, потом — на национальных языках, они свидетельствуют торжественно и кратко обо всем, что было истинно ценного в жизни мира. Их можно встретить на алтарях, на храмах, на знаменах, на мавзолеях, даже — на камнях в поле.
Я вспоминаю сейчас одну надпись — на гробнице среди базилики св. Аполлинария в окрестностях Равенны; эта надпись гласит: «Sanctus Romualdus Ravennus ad altare hoc noctu orans beato martyre Apollinare bis viso ad sacru<m> ordine<m> monasticum vocatus est anno DCCCCXXV11» — «Святой Ромуальд, уроженец
200
ДОКЛАД
А.А. Блок. Рыцарь-монах
Равенны, молившийся ночью у этого алтаря и дважды видевший блаженного мученика Аполлинария150, был призван в святой монашеский орден в 927 году».
Поэма Вл. Соловьева, обращенная от его лица непосредственно к Той, Которую он здесь называет Вечной Подругой, гласит: «Я, Владимир Соловьев, уроженец Москвы, призывал Тебя и видел Тебя трижды: в Москве в 1862 году, за воскресной обедней, будучи девятилетним мальчиком; в Лондоне, в Британском музее, осенью 1875 года, будучи магистром философии и доцентом Московского университета; в пустыне близ Каира, в начале 1876 года:
Еще невольник суетному миру, Под грубою корою вещества Так я прозрел нетленную порфиру И ощутил сиянье божества»151.
Вот какую надпись читаем мы над изображением рыцаря-монаха. Подобно средневековым надписям, она служит не истолкованием, но утверждением всей картины: мало одного чертежа — нужно еще закрепляющее слово; и слово произнесено. Поэма, написанная в конце жизни, указывает, где начинается жизнь; отныне, приступая к изучению творений Соловьева, мы должны не подниматься к ней, а обратно: исходить из нее; только в свете этого образа, ставшего ясным после того, как второй, производный, погашен смертью, — можно понять сущность учения и личности Вл. Соловьева. Этот образ дан самой жизнью, он — не аллегория ни в каком смысле; пусть будет он предметом научного исследования, самое существо его неразложимо; он излучает невещественный золотой свет. Золотом и киноварью писались слова, исходящие из уст Гавриила: «Ave, gratiae plena»1. В периодической системе элементов — этот основной, простеший элемент должен быть отмечен золотом и киноварью.
Современники Вл. Соловьева утратили секрет понимания простейшего. Девятнадцатый век отличался необыкновенной скрытностью: подвергая своих сынов уравнению, загромождая их умы производным и застав-
1 «Радуйся, благодатная» (лат.).
201
19.I.1911
А.А. Блок. Рыцарь-монах
ляя их забыть о сущем, этот хитрый век выкинул на улицу лозунги позитивизма и натурализма, а сам, в тишине философских и ученых келий, готовил то, свидетелями и участниками чего суждено быть нам. Глаза многих уже раскрываются. Как Соловьев открыл истинное лицо «отца позитивизма»152, определив идею человечества, как св. Софии Премудрости Божией — у О. Конта, так мы уже не можем не видеть истинного лица «отца натурализма» — Э. Золя. У нас за плечами — великие тени Толстого и Ницше, Вагнера и Достоевского. Все изменяется; мы стоим перед лицом нового и всемирного. Недаром в промежутке от смерти Вл. Соловьева до сегодняшнего дня мы пережили то, что другим удается пережить в сто лет; недаром мы видели, как в громах и молниях стихий земных и подземных новый век бросал в землю свои семена; в этом грозовом свете нам промеч-тались и умудрили нас поздней мудростью — все века. Те из нас, кого не смыла и не искалечила страшная волна истекшего десятилетия, — с полным правом и с ясной надеждой ждут нового света от нового века.
Лучшее, что мы можем сделать в честь и память Вл. Соловьева, — это радостно вспомнить, что сущность мира — от века вневременна и внепространственна; что можно родиться второй раз и сбросить с себя цепи и пыль. Пожелаем друг другу, чтобы каждый из нас был верен древнему мифу о Персее и Андромеде; все мы, насколько хватит сил, должны принять участие в освобождении плененной Хаосом Царевны — Мировой и своей души. Наши души — причастны Мировой. Сегодня многие из нас пребывают в усталости и самоубийственном отчаянии; новый мир уже стоит при дверях; завтра мы вспомним золотой свет, сверкнувший на границе двух, столь несхожих, веков. Девятнадцатый заставил нас забыть самые имена святых; двадцатый, быть может, увидит их воочию. Это знамение явил нам, русским, еще не разгаданный и двоящийся перед нами — Владимир Соловьев.
И в этот миг незримого свиданья Нездешний свет вновь озарит тебя, И тяжкий сон житейского сознанья Ты отряхнешь, тоскуя и любя153.
13 декабря 1910
Из газетных отчетов
Памяти Влад. Соловьева
— Собрание Религиозно-философского общества 19 января было посвящено памяти Владимира Соловьева. Поэт А. Блок произнес красивую по форме речь, похожую на стихи, но весьма тощую по содержанию. Во время одних похорон, 12 лет назад он впервые встретил философа Влад. Соловьева. «Падал мокрый снег и таял, касаясь земли. Белым налетом сохранялся лишь на спинах идущих. Высокий согбенный силуэт обернулся ко мне, и во взгляде его была бездонная синева. Человек-призрак ступал за гробом вне времени и пространства. Много сплетен, много злобы сплеталось тогда вокруг этого широко известного человека — он уже замыкал круг своей жизни...» Еще несколько меланхолически-вычурных фраз. Собрание, приняв их за предисловие, приготовилось слушать блестящее изложение философии Соловьева. Оказалось, однако, что Блок кончил свой нумер. Не лучше оказался и второй нумер — речь Б. Куты-ловского. Начав с личных воспоми-
наний о Соловьеве, по которым «божественность философа ощущалась всеми окружающими даже физически», оратор остановился на национальном вопросе, как его понимал Соловьев. Нация должна жить вселенскою жизнью; если этого нет, ей грозит неминуемый конец. Развитие национализма в России во имя национального эгоизма, а не во имя вселенского начала, породит другой эгоистический национализм, гибельный для России, — желтую опасность. В заключение Вячеслав Иванов, доказывая, что Соловьев первый положил твердые основания для нашего религиозного развития, говорил по обыкновению о «внутреннем опыте соборности», долго останавливался на Достоевском иТолстом и ровно ничего не сказал о самом Соловьеве. Публика вялая и недоумелая расходилась по домам. Почему богоискатели, постоянно кричащие об единственном самобытном русском философе, не в состоянии хотя легкими штрихами очертить эту фигуру?
203
ЗАСЕДАНИЕ 18 АПРЕЛЯ 1911 г.
Вяч. Иванов
Достоевский и роман-трагедия*
Достоевский кажется мне наиболее живым из всех от нас ушедших вождей и богатырей духа. Сходят со сцены люди, которые были властителями наших дум, или только отходят вглубь с переднего плана сцены, — и мы уже знаем, как определилось их историческое место, какое десятилетие нашей быстро текущей жизни, какое устремление нашей беспокойно ищущей, нашей мятущейся мысли они выразили и воплотили. Так, Чехов кажется нам поэтом сумерек дореволюционной поры. Немногие как бы изъяты в нашем сознании из этой ближайшей исторической обусловленности: так возвышается над потоком времени Лев Толстой. Но часто это значит только, что некий живой порыв завершился и откристаллизовался в непреложную ценность, — а между нами и этим новым, зажегшимся на краю неба, маяком легло еще большее отдаление, чем промеж нами и тем, кто накануне шел впереди и предводил нас до последнего поворота дороги. Те, что исполнили работу вчерашнего дня истории, в некотором смысле ближе переживаемой жизни, чем незыблемые светочи, намечающие путь к верховным целям. Толстой, художник, уже только радует нас с высот надвременного Парнаса, прозрачной и далекой обители нестареющих Муз. Еще недавно мы были потрясены уходом Толстого из его дома и из нашего общего дома, этою торжественною и заветною разлукою на
* Публичная лекция и реферат, читанный в петербургском Литературном обществе. — «Русская мысль, 1911, май-июнь».
204
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
пороге сего мира и неведомого иного, безусловного и безжизненного, в нашем смысле, мира, которому давно уже принадлежал он. В нашей памяти остался лик совершившейся личности и, вместе с последним живым заветом: «не могу молчать», некое единственное слово, слово уже не от сего мира, о неведомом Боге и, быть может, также неведомом добре, и о цели и ценности безусловной.
Тридцать лет тому назад умер Достоевский, а образы его искусства, эти живые призраки, которыми он населил нашу среду, ни на пядь не отстают от нас, не хотят удалиться в светлые обители муз и стать предметом нашего отчужденного и безвольного созерцания. Беспокойными скитальцами они стучатся в наши дома в темные и в белые ночи, узнаются на улицах в сомнительных пятнах петербургского тумана и располагаются беседовать с нами в часы бессонницы в нашем собственном подполье. Достоевский зажег на краю горизонта самые отдаленные маяки, почти невероятные по силе неземного блеска, кажущиеся уже не маяками земли, а звездами неба, — а сам не отошел от нас, остается неотступно с нами и, направляя их лучи в наше сердце, жжет нас прикосновениями раскаленного железа. Каждой судороге нашего сердца он отвечает: «знаю, и дальше, и больше знаю»; каждому взгляду поманившего нас водоворота, позвавшей нас бездны он отзывается пением головокружительных флейт глубины. И вечно стоит перед нами, с испытующим и неразгаданным взором, неразгаданный сам, а нас разгадавший, сумрачный и зоркий вожатый в душевном лабиринте нашем, вожатый и соглядатай.
Он жив среди нас, потому что от него или через него все, чем мы живем, — и наш свет, и наше подполье. Он великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности. До него все в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство, создал, — как «Тернер создал лондонские туманы»154, — т.е. открыл, выявил, облек в форму осуществления — начинавшуюся и еще не осознанную сложность нашу; поставил будущему вопросы, которых до него никто не ставил, и нашептал ответы на еще не понятые вопросы. Он как бы переместил планетную систему: он принес нам, еще не пережившим того откровения личности, какое изживал Запад уже в течение столетий, — одно из последних и окончательных откровений о ней, дотоле неведомое
205
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
миру. До него личность у нас чувствовала себя в укладе жизни и в ее быте или в противоречии с этим укладом и бытом, будь то единичный спор и поединок, как у Алеко иПечориных, или бунт скопом и выступление целой фаланги, как у наших поборников общественной правды и гражданской свободы. Но мы не знали ни человека из подполья, ни сверхчеловеков, вроде Раскольникова и Кириллова, представителей идеалистического индивидуализма, центральных солнц вселенной на чердаках и задних дворах Петербурга, личностей-полюсов, вокруг которых движется не только весь отрицающий их строй жизни, но и весь отрицаемый ими мир — и в беседах с которыми по их уединенным логовищам столь многому научился новоявленный Заратустра. Мы не знали, что в этих сердцах-берлогах довольно места, чтобы служить полем битвы между Богом и дьяволом, или что слияние с народом и оторванность от него суть определения нашей воли веры, а не общественного сознания и исторической участи. Мы не знали, что проблема страдания может быть поставлена сама по себе, независимо от внешних условий, вызывающих страдание, ни даже от различения между добром и злом, что красота имеет Содомскую бездну, что вера и неверие не два различных объяснения мира, или два различных руководительства в жизни, но два разноприродных бытия. Достоевский был змий, открывший познание путей отъединенной, самодовлеющей личности и путей личности, полагающей свое и вселенское бытие в Боге. Так он сделал нас богами, знающими зло и добро, и оставил нас, свободных выбирать то или другое, на распутье.
Чтобы так углубить и обогатить наш внутренний мир, чтобы так осложнить жизнь, этому величайшему из Дедалов, строителей лабиринта, нужно было быть сложнейшим и в своем роде грандиознейшим из художников. Он был зодчим подземного лабиринта в основаниях строящегося поколениями храма; и оттого он такой тяжелый, подземный художник, и так редко видимо бывает в его творениях светлое лицо земли, ясное солнце над широкими полями, и только вечные звезды глянут порой через отверстия сводов, как те звезды, что видит Дант на ночлеге в одной из областей Чистилища, из глубины пещеры с узким входом, о котором говорит: «Немногое извне доступно было взору, но чрез то звезды я видел и ясными, и крупными необычно»155.
206
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия I. Принцип формы
1
Бросим же взгляд на работу этого Дедала. Его лабиринтом был роман или, скорее, цикл романов, внешне не связанных прагматическою связью и не объединенных общим заглавием, подобно составным частям эпопеи Бальзака156, но все же сросшихся между собой корнями столь неразрывно, что самые ветви их казались сплетшимися такому, например, тонкому и прозорливому критику, каким был покойный Инн<окентий> Ф. Анненский; недаром последний пытался наметить как бы схематический чертеж157, определяющий психологическую и чуть ли не биографическую связь между отдельными лицами единого многочастного действа, изображенного Достоевским, — лицами-символами, в которых, как в фокусах, вспыхивали идеи-силы, чье взаимодействие и борьбу являл нам этот поэт вечной эпопеи о войне Бога и дьявола в человеческих сердцах. Ибо в новую эпоху всемирной литературы, как это было уже высказано философами, роман сделался основною, всеобъемлющею и всепоглощающею формою в художестве слова, формою, особливо свойственною переживаемой нами поре и наиболее приближающею наше творчество одиноких и своеобразных художников к типу всенародного искусства.
Правда, современный роман, даже у его величайших представителей, не может быть признан делом искусства всенародного, хотя бы он стал достоянием и всего народа, потому что он есть творение единоличного творца, принесшего миру свою весть, а не пересказавшего только сладкоречивыми устами, на которые, как это было по легенде с отроком Пиндаром158, положили свой мед божественные пчелы, — то, что уже просилось на уста у всех и, по существу, давно было ведомо и желанно всем. Наш роман большого стиля, обнимающий всю народную жизнь и подобный оку народа, загоревшемуся в единоличной душе, но наведенному на весь народ, чтобы последний мог обозреть себя самого и себя осознать, — такой роман я назвал бы, — применяя термин, предложенный рано умершим и даровитей-
207
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
шим французским критиком Геннекеном159, — романом демотическим (от слова демос — народ). И тем не менее, этот демотический, а не всенародный роман, этот роман не большого, гомеровского или дантовско-го, искусства, а того среднего, которое сам Достоевский, говоря о товарищеской плеяде писателей-прозаиков, как он сам, Толстой, Тургенев, Гончаров, Писемский, Григорович, в отличие от «поэтов», как Пушкин и Гоголь, означал скромным и неблагозвучным именем «беллетристики», — тем не менее, говорю я, этот роман среднего, демотического искусства возвышается в созданиях, прежде всего, самого Достоевского до высот мирового, вселенского эпоса и пророчественного самоопределения народной души.
Как могло это случиться с милетскою сказкой, которая, в конце развития античной словесности, дала, правда, не только идиллию о Дафнисе и Хлое, но уже и «Золотого Осла»160, чтобы в течение средних веков, оторвавшись от низменной действительности, предаться изображению исключительно легендарного и символического мира, отделив от себя в узкий, рядом текущий ручеек все мелочно бытовое и анекдотически или сатирически забавное? Случилось это потому, что со времени Боккачио и его «Фиаметты»161 росток романа принял прививку могущественной идейной и волевой энергии — глубокореволюционный яд индивидуализма. Личность в средние века не ощущала себя иначе, как в иерархии соборного соподчинения общему укладу, долженствовавшему отражать иерархическую гармонию мира божественного; в эпоху Возрождения она оторвалась от этого небесно-земного согласия, почувствовала себя одинокою и в этом надменном одиночестве своеначальною и самоцельною. Соборный состав как бы распылился, сначала в сознании передовых людей, наиболее смелых и мятежных, хотя еще и не измеривших до конца всех последствий и всей глубины самочинного утверждения автономной личности; впоследствии же распылился он и в исторических судьбах народов, что было ознаменовано в 1789 г. провозглашением прав человека.
Напрасно «рыцарь печального образа» делает героическую попытку восстановить старую рыцарскую цель-
208
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
ность миросозерцания и жизнеустроения: сам мир восстает, с одобрения Сервантеса, против личности, выступившей под знаменем вселенской идеи, и поборник ветхой соборности оказывается на самом деле только индивидуалистом, одиноким провозгласителем «неразделенного порыва», — тот, кто посвятил свою жизнь служению не во имя свое, обличается, как самозванный и непрошенный спаситель мира во имя свое; трагическое обращается в комическое, и пафос разрешается в юмор. Роман делается с тех пор знаменосцем и герольдом индивидуализма; в нем личность разрабатывает свое внутреннее содержание, открывает Мексики и Перу в своем душевном мире, приучается сознавать и оценивать неизмеримость своего микрокосма. В романе учится она свободно мыслить и чувствовать, «мечтать и заблуждаться», философствовать жинью и жить философией, строить утопии несбыточного бытия, неосуществимой, но вожделенной гражданственности, прежде же всего учится любить; в любовном переживании познает она самое себя в бесконечной гамме притекающих со дня на день новых восприятий жизни, новых чувствований, новых способностей к добру и злу. Роман становится референдумом личности, предъявляющей жизни свои новые запросы, и вместе подземною шахтою, где кипит работа рудокопов интимнейшей сферы духа, откуда постоянно высылаются на землю новые находки, новые дары сокровенных от внешнего мира недр. Сама пестрота приключений служит орудием обеспечения за личностью внешнего простора для ее действенного самоутверждения, а изображение быта орудием сознания, а через то и преодоления быта. Роман является или глашатаем индивидуалистического беззакония, поскольку ставит своим предметом борьбу личности с упроченным строем жизни и ее наличными нормами, или выражением диктуемого запросами личности нового творчества норм, лабораторией всяческих переоценок и законопроектов, предназначенных частично или всецело усовершенствовать и перестроить жизнь.
Таким роман дожил через несколько веков новой истории и до наших дней, всегда оставаясь верным зеркалом индивидуализма, определившего собою с эпохи Возрождения новую европейскую культуру; и, коне-
209
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
чно, ему не суждено, как это еще недавно предсказывали лжепророки самонадеянной критики, эти птице-гадатели, гадающие о будущем по полету вдруг пролетевшей стаи птиц или по аппетиту кур, клюющих или отвергающих насыпанное зерно, — конечно, не суждено ему, роману, измельчать и раздробиться в органически не оформленные и поэтически невместительные рассказы и новеллы, как плугу не суждено уступить свое место поверхностно царапающей землю сохе, но роман будет жить до той поры, пока созреет в народном духе единственно способная и достойная сменить его форма-соперница царица-Трагедия, уже высылающая в мир первых вестников своего торжественного пришествия.
2
Перечитывая Достоевского, ясно узнаешь литературные предпочтения и сродства, изначала вдохнувшие в него мечту о жизни идеально желанной и любовь к утопическим перспективам на горизонте повествования: это Жан-Жак Руссо и Шиллер. Что-то заветное было подслушано Достоевским у этих двух гениев: не то чтобы он усвоил себе всецело их идеал, но часть их энтузиазма и еще более их мировосприятия он глубоко принял в свою душу и претворил в своем сложном и самобытном составе. Внушения, воспринятые от Руссо, предрасположили ум юноши и к первым социалистическим учениям; он осудил потом последние, как попытки устроиться на земле без Бога, но первоначальных впечатлений от Руссо забыть не мог, не мог забыть грезы о естественном рае близких к природе и от природы добрых людей, золотой грезы, которая еще напоминает о себе — и тем настойчивее, чем гуще застилают ясный лик неискаженной жизни больные городские туманы — и в «Сне смешного человека», и в «Идиоте», и даже, как ни странно сказать, в некоторых писаниях старца Зосимы.
Чтоб из низости душою Мог подняться человек, С древней матерью Землею Он вступи в союз навек162.
210
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
Эти строки из Шиллера наш художник повторяет с любовью. Шиллеров дифирамбический восторг, его «поцелуй всему миру» во имя живого Отца «над звездами», — та вселенская радость о Земле и Боге, которая нудит Дмитрия Карамазова воспеть гимн, и именно словами Шиллера, — все это было, в многоголосом оркестре творчества Достоевского, непрестанно звучавшею арфой мистического призыва: «sursum corda». Из чего видно, что мы утверждаем, собственно, не присутствие подлинной стихии Руссо и Шиллера в созданиях Достоевского, а своеобразное и вполне самостоятельное претворение в них этой стихии. Можно догадываться, что и из сочинений Жорж-Санд Достоевский, назвавший ее «предчувственницей более счастливого буду-щего»163, учился — чему? — мы бы сказали: больше всего «идейности» в композиции романов, их философической и общественной обостренности, всему, что сближает их, в самом задании, с типом романа-теоремы.
Но чисто формальная сторона избранного, или, точнее, созданного Достоевским литературного рода испытала иные влияния. Здесь его предшественниками являются писатели, придавшие роману чрезвычайно широкий размах и зорко заглянувшие в человеческое сердце, реалисты-бытописатели, не пожертвовавшие, однако, человеком для субботы, внутренним образом личности для изображения среды, ее обусловившей, и обобщенной картины нравов: гениальный, ясновидящий Бальзак, о котором еще семнадцатилетний, Достоевский пишет. «Бальзак велик, его характеры — произведения ума вселенной, целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека», — и неглубоко заглядывающий, но чувствующий глубоко и умеющий живописать такими глубокими тонами Диккенс. Если Диккенс кажется нам важным для изучения колорита Достоевского, то, с другой стороны, сочности и эффектам колорита учили его романтики — Гофман и, быть может, Жан-Пауль Рихтер164. От них же мог он усвоить и много других приемов, им излюбленных, как пристрастие к неожиданным встречам и столкновениям странных людей, при странных стечениях обстоятельств, к чрезвычайному вообще в самих людях, в их положениях и в их пове-
211
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
дении, к непредвиденным и кажущимся не всегда уместными излияниям чувств, обнажающим личность невзначай до глубины, к трагическому и патетическому юмору, наконец, ко всему фантастическому, что Достоевский подчас как бы с трудом удерживает в границах жизненного правдоподобия.
Таковы были, на наш взгляд, главные влияния, воспринятые Достоевским-художником; и если я не упоминаю о влиянии отечественной словесности, несмотря на заявление самого Достоевского, что вся плеяда беллетристов, к которой он причислял и себя, всецело и прямо вышла из поэзии Пушкина, то не упоминаю потому, что связь Достоевского с великими русскими предшественниками кажется мне лишь общеисторической, а не специально технической: здесь соприродность душ и преемство семейного огня, здесь закономерное и все более широкое осознание нами залежей нашего народного духа и его заветов, здесь последовательное раскрытие внутренних сил и тяготений нашего национального гения; здесь органический рост, а не обусловленность извне привходящим влиянием. О Пушкине говорил Достоевский потому, что, по его убеждению, нам нужно только развить намеки Пушкина на присущее ему целостное созерцание русской жизни и русской души, чтобы окончательно постичь себя самих, как народную личность и народную участь.
Что касается Гоголя, мне представляются Достоевский и Гоголь полярно противоположными: у одного лики без души, у другого — лики душ; у гоголевских героев души мертвы или какие-то атомы космических энергий, волшебные флюиды, — а у героев Достоевского души живые и живучие, иногда все же умирающие, но чаще воскресающие или уже воскресшие; у того красочно-пестрый мир озарен внешним солнцем, у этого — тусклые сумерки обличают теплящиеся, под зыбкими обликами людей, очаги лихорадочного горения сокровенной душевной жизни, Гоголь мог воздействовать на Достоевского только в эпоху «Бедных Людей». Тогда «Шинель» была для него откровением; и достаточно припомнить повесть «Хозяйка», чтобы измерить век силу внушения, воспринятого от Гоголя-стилиста чуждым ему по духу молодым рассказчиком,
212
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
в период до ссылки. Напротив, роман Лермонтова, с его мастерскою пластикой глубоко задуманного характера, с его идейною многозначительностью и зорким подходом к духовным проблемам современности, не мог не быть одним из определяющих этапов в развитии русского романа до тех высот трагедии духа, на какие вознес его Достоевский.
3
Новизна положения, занятого со времени Достоевского романом в его литературно-исторических судьбах, заключается именно в том, что он стал, под пером нашего художника, трагедией духа. Эсхил говорит про Гомера, что его, Эсхилово, творчество есть лишь крохи от Гомерова пира. «Илиада» возникла, как первая и величайшая трагедия Греции, в ту пору, когда о трагедии еще не было и помина. Древнейший по времени и недосягаемый по совершенству памятник европейского эпоса был внутренне трагедией, как по замыслу и развитию действия, так и по одушевляющему его пафосу. Уже в «Одиссее» исконная трагическая закваска эпоса истощилась. Та эпическая форма, которую мы называем романом, развиваясь все могущественнее (в противоположность героическому эпосу, который после «Илиады» только падал), восходит в романе Достоевского до вмещения в свои формы чистой трагедии.
Эпос, по Платону, смешанный род, отчасти повествовательный, или известительный, — там, где певец сообщает нам от себя о лицах действия, его обстановке и ходе самих событий, — отчасти подражательный, или драматический, — там, где рассказ рапсода прерывается многочисленными и длинными у Гомера монологами или диалогами действующих лиц, чьи слова в прямой речи звучат нам как бы через уста вызванных чарами поэта масок невидимой трагической сцены. Итак, по мысли Платона, лирика и эполира, с одной стороны, обнимающая все, что говорит поэт от себя, и драма — с другой, объемлющая все то, что поэт намеренно влагает в уста других лиц, суть два естественных и беспримесных рода поэзии, эпос же совмещает в себе нечто от лирики и нечто от драмы. Эта смешанная природа эпоса объяснима его происхождением из первобытного
213
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
синкретического искусства, где он еще не был отделен от музыкально-орхестического священного действа и лицедейства. Таково историческое основание, в силу которого мы должны рассматривать роман-трагедию не как искажение чисто эпического романа, а как его обогащение и восстановление в полноте присущих ему прав. Каковы же, однако, признаки, оправдывающие наше определение романа Достоевского, как романа-трагедии?
Трагичен по существу, во всех крупных произведениях Достоевского, прежде всего, сам поэтический замысел. «Die Lust zu fabuliren» — самодовлеющая радость выдумки и вымысла, ткущая свою пеструю ткань разнообразно сцепляющихся и переплетающихся положений, — когда-то являлась главною формальною целью романа; и в этом фабулизме эпический сказочник, казалось, всецело находил самого себя, беспечный, словоохотливый, неистощимо изобретательный, меньше всего желавший и хуже всего умевший кончить рассказ. Верен был он и исконному тяготению сказки к развязке счастливой и спокойно возвращающей нас, после долгих странствий на ковре-самолете, в привычный круг, домой, идеально насыщенных многообразием жизни, отразившейся в тех зеркальных маревах, что стоят на границе действительности и сонной грезы, и исполненных нового, здорового голода к восприятию впечатлений бытия более молодому и свежему. Пафос этого беззаботного, «праздномыслящего», по выражению Пушкина, фабулизма, быть может, невозвратно утрачен нашим усложненным и омраченным временем; но самим фабулизмом, говоря точнее, — его техникой, Достоевский пожертвовать не хотел и не имел нужды.
Подобно композитору симфоний, он использовал его механизм для архитектоники трагедии и применил к роману метод, соответствующий тематическому и контрапунктическому развитию в музыке, — развитию, излучинами и превращениями которого композитор приводит нас к восприятию и психологическому переживанию целого произведения, как некоего единства. В необычайно, — казалось бы, даже чрезмерно развитом и мелочно обстоятельном прагматизме
214
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
Достоевского нельзя устранить ни одной малейшей частности: в такой мере все частности подчинены, прежде всего, малому единству отдельных перипетий рассказа, а эти перипетии, в свою очередь, группируясь как бы в акты драмы, являются железными звеньями логической цепи, на которой висит, как некое планетное тело, основное событие, цель всего рассказа, со всеми его многообразными последствиями, со всею его многознаменательною и тяжеловесною содержательностью, ибо на этой планетной сфере снова сразились Ормузд и Ариман165, и катастрофически совершился на ней свой апокалипсис и свой новый страшный суд.
4
Роман Достоевского есть роман катастрофический, потому что все его развитие спешит к трагической катастрофе. Он отличается от трагедии только двумя признаками: во-первых, тем, что трагедия у Достоевского не развертывается перед нашими глазами в сценическом воплощении, а излагается в повествовании; во-вторых, тем, что вместо немногих простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы трагедию потенцированную, внутренне осложненную и умноженную в пределах одного действия: как будто мы смотрим на трагедию в лупу и видим в ее молекулярном строении отпечатление и повторение того же трагического принципа, какому подчинен весь организм. Каждая клеточка этой ткани есть уже малая трагедия в себе самой; и если катастрофично целое, то и каждый узел катастрофичен в малом. Отсюда тот своеобразный закон эпического ритма у Достоевского, который обращает его создания в систему напряженных мышц и натянутых нервов, что делает их столь утомительными и вместе столь властными над нашею душой. Отсюда вытекают и несомненные недостатки этих произведений, как творений искусства: «жестокий талант» запрещает нам радость и наслаждение; мы должны исходить до конца весь Inferno, прежде чем достигнем отрады и света в «катартиче-ском» очищении.
Очищением (катарсис) должна была разрешаться античная трагедия: в древнейшую пору это очищение
215
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
понимали в чисто религиозном смысле, как блаженное освящение и успокоение души, завершившей круг внутреннего мистического опыта, действенно приобщившейся таинствам страстного служения Дионису — богу страдающему. Аристотель, желая основать эстетику самое по себе, избегая привносить в нее элементы религиозного чувствования, изображает катарсис, как целительное освобождение души от хаотической смуты поднятых в ней со дна действием трагедии аффектов, преимущественно аффектов страха и сострадания. Ужас и мучительное сострадание могущественно поднимает у нас со дна души жестокая (ибо до последнего острия трагическая) муза Достоевского, но к очищению приводит нас всегда, запечатлевая этим подлинность своего художественного действия, — как бы мы ни принимали «очищение». Это понятие, о содержании которого столько спорили, но которое, тем не менее, знакомо по непосредственному опыту всем нам. Оно знакомо нам, если, хоть раз в жизни, мы вернулись домой, после некоего торжественного и соборного потрясения, с ясным, как благодатная лазурь после пронесшейся грозы, сознанием, что не понапрасну только что хлынули из наших глаз потоки слез и, все израненное, судорожно сжималось наше сердце, — не напрасно потому, что в нас совершилось какое-то неизгладимое событие, что мы стали отныне в чем-то иными и жизнь для нас чем-то иною навек и что какое-то неуловимое, но осчастливливающее утверждение смысла и ценности, если не мира и Бога, то человека и его порыва, затеплилось звездой в нашей, от чего-то жертвенно отрешившейся и тем уже облагороженной, что-то приявшей и в муках зачавшей, но уже этим богатой и оправданной души. И так творчески сильно, так преобразительно катартическое облегчение и укрепление, какими Достоевский одаряет душу, прошедшую с ним через муки ада и мытарства чистилища до порога обителей Беатриче, что мы все уже давно примирились с нашим суровым вожатым, и не ропщем более на трудный путь.
Не это можно назвать недостатком, и не будет признано несовершенством то, что есть условие вос-кресительного свершения. Но недостатком манеры нашего гениального художника можно назвать одно-
216
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
образие приемов, которые кажутся как бы прямым перенесением условий сцены в эпическое повествование: искусственное сопоставление лиц и положений в одном месте и в одно время; преднамеренное сталкивание их; ведение диалога менее свойственное действительности, нежели выгодное при освещении рампы; изображение психологического развития также сплошь катастрофическими толчками, порывистыми и исступленными оказательствами и разоблачениями, на людях, в самом действии, в условиях неправдоподобных, но сценически благодарных; округление отдельных сцен завершительными эффектами действия, чистыми «coups de theatre», — и, в тот период, когда истинно-катастрофическое еще не созрело и наступить не может, предвосхищение его в карикатурах катастрофы — сценах скандала.
5
Так как по формуле Достоевского (также сценической по существу) все внутреннее должно быть обнаружено в действии, он неизбежно приходит к необходимости воплотить антиномию, лежащую в основе трагедии, — в антиномическом действии; оно же в мире богов и героев, с которыми имела дело античная трагедия, оказывается большею частью, а в людском мире и общественном строе всегда и неизбежно — преступлением. Катастрофу-преступление наш поэт должен, по закону своего творчества, объяснить и обусловить трояко: во-первых, из метафизической антиномии личной воли, чтобы видно было, как Бог и дьявол борются в сердцах людей; во-вторых, из психологического прагматизма, т.е. из связи и развития периферических состояний сознания, из цепи переживаний, из зыби волнений, приводящих к решительному толчку, последнему аффекту, необходимому для преступления; в-третьих, наконец, из прагматизма внешних событий, из их паутинного сплетения, образующего тончайшую, но мало-помалу становящуюся нерасторжимой ткань житейских условий, логика которых неотвратимо приводит к преступлению. Присовокупим, что это тройное объяснение человеческой судьбы отражено, кроме того, в плане общественном, так что сама метафизика лич-
217
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
ной воли оказывается органически связанной с метафизикою воли соборной или множественной воли целых легионов богоборствующего воинства.
Этот «maestro di color che sanno», — мастер и первый из наделенных ведением, если речь идет о глубинах человеческого сердца, — вышеопределенным тройным исследованием причин преступления наглядно и жизненно являет нам тайну антиномического сочетания обреченности и вольного выбора в судьбах человека. Он как бы подводит нас к самому ткацкому станку жизни и показывает, как в каждой ее клеточке пересекаются скрещенные нити свободы и необходимости. Метафизическое его изображение имманентно психофизическому; каждый волит и поступает так, как того хочет его глубочайшая, в Боге лежащая или Богу противящаяся и себя от Него отделившая, свободная воля, и кажется, будто внешнее поверхностное воление и волнение всецело обусловлены законом жизни, но то изначальное решение, с Богом ли быть или без Бога, каждую минуту сказывается в сознательном согласии человека на повелительное предложение каких-то бесчисленных духов, предписывающих ступить сюда, а не туда, сказать то, а не это. Ибо, при раз сделанном метафизическом выборе, поступить иначе, в каждом отдельном случае, и нельзя, сопротивление просто неосуществимо, а первоначальный выбор неизменен, если раз он совершился, так как он не в разумении и не в памяти, а в самом существе человеческого я может освободить его и от его свойства: тогда человек теряет душу свою, отпускает от себя душевный лик свой и забывает имя свое; он продолжает дышать, но ничего своего уже не желает, утонув в мировой или мирской соборной воле, в ней растворяется всецело и из нее мало-помалу опять как бы собирается, осаждается в новое воплощенное я, гость и пришелец в своем старом доме, в дождавшемся прежнего хозяина прежнем теле. Этот возродительный душевный процесс, на утверждении и предвкушении которого зиждилась в древности чистая форма Дионисовой религии и который составляет центральное содержание мистического нравоучения в христианстве, Достоевский умел, насколько это дано искусству, воплотить в образах внутреннего перерождения личности, и все же лишь так, что мы узнаем растение по плодам его, но из намеков на благодатную тайну сокровенного роста
218
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
понять ее иначе не можем, как путем интуитивного вник-новения, по малым и частным подобиям собственного сердечного опыта. Достоевский же здесь свидетель верный, говорящий о том, чтО, как человек, пережил сам.
Ибо не то важно, осудил ли он или нет и в какой мере осудил разумом свое прежнее самоопределение до каторги, признал ли себя в душе виновным или же осужденным невинно: важно одно, что он страстно пожелал освободиться от прежнего свойства своей личности и что насильственно наложенное на него обезличение помогло ему в его тайном деле жертвенного расточения души своей, позволило ему отторгнуться от своего я, внутренне умереть, экстатически испытать на деле, что значат слова Леопарди: «И сладко мне крушенье в этом море»166, и слова Гёте: «Охотно личность согласится исчезнуть, дабы обресть себя в беспредельном, ибо в том, чтобы отдать себя без остатка, есть наслаждение». И он испытал это наслаждение до того блаженства, каким начинались его припадки эпилепсии.
6
Но из вышеразвитого вытекали опять-таки некоторые формальные особенности творчества, вовсе нежелательные с точки зрения отвлеченно эстетической. Сюда относятся и дикая или тихая исступленность, присущая большинству выводимых Достоевским лиц, и чрезмерное преобладание свойственного трагедии патетического начала вообще над спокойным объективизмом эпоса, и — вследствие той роли, какую играет в жизни по Достоевскому преступление, — односторонне криминалистическая постройка романов. Необходимость с крайнею обстоятельностью и точностью представить психологический и исторический прагматизм событий, завязывающихся в роковой узел, приводит к почти судебному протоколизму тона, который заменяет собой текучую живопись эпического строя. Вместо согретого мечтательною беспечностью повествования, заставляющего ощущать приятность бескорыстного, бесцельного созерцания, поэт ни на минуту не оставляет приемов делового отчета и осведомления. Так достигает он иллюзии необычайного реалистического правдоподобия, безусловной достоверности, и ею прикрывает чисто поэтическую, грандиозную условность созда-
219
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
ваемого им мира, не такого, как мир действительный, в нашем повседневном восприятии, но так ему соответствующего, с таким ясновидением угаданного в его соотношениях с миром реальным, что сама действительность как бы спешила отвечать этому Колумбу человеческого сердца обнаружением предвиденных и как бы предопределенных им явлений, дотоле таившихся за горизонтом.
Иллюзия соразмерности с ритмом и рельефом действительности скрадывает от глаз читателя и почти угрожающую громаду колоссальной фантазии русского Шекспира; а за умышленно прозаическим и протокольным слогом обычно не замечают необычайной, можно сказать, неизбежной точности и могучей лепки великолепно выразительного и адекватного предмету языка, — быть может, неприятно отразившего говор среднего, городского люда, но ценного уже своею освободительною энергией, своим мятежом против условных литературных ужимок, чопорной гладкости и притворства. Вывод из этих наблюдений над внешними покровами созданий Достоевского, над его стилем, был бы, однако, не полон, если бы мы не приняли в расчет одного могущественного приема изобразительности, при помощи которого романист умеет превратить протокол уголовного следствия в живую ткань чисто поэтического — и притом романтического по своему наряду — рассказа. Достоевский не только колорист, но и колорист-импрессионист. В этом он подобен Рембрандту. Припомним слова Бодлера:
Больница скорбная, исполненная стоном, Распятье на стене страдальческой тюрьмы, — Рембрандт... Там молятся на гноище зловонном, Во мгле, пронизанной косым лучом зимы...167
Льва Толстого можно было бы, напротив, сравнить скорее с пленэристами в живописи: так все у него светло по окраске, даже нет в этих светлых пятнах той отчетливости, какая достигается менее равномерно распределенным освещением, — так все купается в рассеянном свете, ни на минуту не позволяющем сосредоточиться на частной форме до забвения просторов окружающего целого. Достоевский, подобно Рембрандту, весь в темных скоплениях теней по углам замкнутых затворов, весь в ярких
220
ДОКЛАД
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
озарениях преднамеренно брошенного света, дробящегося искусственными снопами по выпуклостям и очертаниям впадин. Его освещение и цветовые гаммы его света, как у Рембрандта, лиричны. Так ходит он с факелом по лабиринту, исследуя казематы духа, пропуская в своем луче сотни подвижных в подвижном пламени лиц, в глаза которых он вглядывается своим тяжелым, обнажающим, внутрь проникающим взглядом.
Толстой поставил себя зеркалом перед миром, и все, что входит в зеркало, входит в него: так хочет он наполниться миром, взять его в себя, сделать его своим посредством осознания и, в сознании преодолев, отдать людям и самый мир, через него прошедший, и то, чему он научился при его прохождении, — нормы отношения к миру. Этот акт отдачи есть вторичный акт, акт заботы о мире и любви к людям, понятой, как служение, первичный акт был чистым наблюдением и созерцанием. Внутренний процесс, лежащий между этими двумя актами отношения к миру, был процессом обесцвечивания красок жизни, отвлечением постоянного от преходящего, общего и существенного от частного и случайного: для норм нужно только общее и постоянное, оно же признается насущным и единственно нужным. В этом процессе многосоставное явление разлагается на свои элементы; из этих простых элементов строится образ жизни, подчиненный правилу; в заключение — жизни наличной противопоставляется мерилом искусственно опрощенная жизнь.
Иной путь Достоевского. Он весь устремлен не к тому, чтобы вобрать в себя окружающую его данность мира и жизни, но к тому, чтобы, выходя из себя, проникать и входить в окружающие его лики жизни, ему нужно не наполниться, а потеряться. Живые существа, доступ в которые ему непосредственно открыт, суть не вещи мира, но люди, — человеческие личности, ибо они ему реально соприродны. Здесь энергия центробежных движений человеческого я, оставляющая дионисийский пафос характера, вызывает в гениальной душе такое осознание самой себя до своих последних глубин и издревле унаследованных залежей, что душа кажется самой себе необычайно многострунной и все вмещающей; всем переживаниям чужого я она, мнится, находит в себе соответствующую
221
18.IV.1911
Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия
аналогию и, по этим подобиям и чертам родственного сходства, может воссоздать в себе любое состояние чужой души. Дух, напряженно прислушивающийся к тому, как живет и движется узник в соседней камере, требует от соседа немногих и легчайших знаков, чтобы угадать недосказанное, несказанное.
Потребность и навык настороженного внимания, зоркого вглядывания делают Достоевского похожим на человека со светочем в руках. Разведчик и ловец в потемках душ, он не нуждается в общем озарении предметного мира. Он погружает свои поэмы как бы в сумрак, чтобы, как древние Эринии168, выслеживать и подстерегать в ночи преступника, и таиться, и выжидать за выступом скалы, и вдруг, раскинув багровое зарево, обличить бездыханное, окровавленное тело и вперившего в него неотводный, помутнелый взор бледного, исступленного убийцу. Муза Достоевского, с ее экстатическим и ясновидящим проникновением в чужое я, похожа вместе на обезумевшую Дионисову менаду, устремившуюся вперед, с сильно бьющимся сердцем, — и на другой лик той же менады — дочь Мрака, ловчую собаку богини Ночи, змееволосую Эринию, с искаженным лицом, чуткую к пролитой крови, вещую, неумолимую, неусыпимую мстительницу, с факелом в одной и бичом из змей в другой руке.
Вячеслав Иванов
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Петрограде) История в материалах и документах
СЕЗОН
912/
ЗАСЕДАНИЕ 18 ОКТЯБРЯ 1912 г.
М.В. Одинцов
Философия религиозного действия. Серен Кьеркегор
Философское знание и религиозная вера всегда были явлениями родственными и взаимно связанными. Не только философские учения античного мира (пифагореизм, платонизм и др.) уходят своими корнями в глубь религиозного сознания, но и многие философские системы Нового времени, когда духовная жизнь питалась и другими, помимо религии, источниками, носят скрытый или явный религиозный отпечаток, если не по своему содержанию, то по крайней мере со стороны субъективного отношения к этому содержанию своих творцов. Этот религиозный элемент философии был всегда собственно религиозной верой (в тесном смысле), т.е. началом эмоциональным. Эмоциональный элемент, как внутренняя основа философствования, и роднит философию с искусством, придавая ей характер непосредственного творчества. Но вырастая из глубин человеческой личности, религиозное сознание не может быть ограниченным только сферой эмоциональной; проходя через нее, как собственно религиозное чувство, оно стремится выразиться, как в конечном своем завершении, в религиозной активности. И вот здесь-то и возникает разъединение философии и религии; вырастая из общей основы, они, подобно радиусам в круге, расходятся по различным путям по мере своего дальнейшего развития. Философия созерцает, религия действует, созерцание останавливает непосредственное движение действующей воли, действие
225
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
уклоняет созерцающее сознание от чистых идей в лабиринт конкретных отдельных фактов. Об этом соотношении религии и философии уместно вспомнить теперь, когда в области философского знания привлекает внимание прагматизм Джеймса, по-видимому, стремящийся перейти бездну, разделяющую созерцание от действия, ивчастности религиозного. Одним из основных положений этого нового философского течения является то, что жизненное дело личности должно решать вопросы философского значения, ибо теоретическая истинность всецело покрывается практической ценностью; поскольку для жизненного дела личности религиозные предпосылки являются одним из самых прочных устоев, и они должны быть включены в круг философских истин. Ввиду возможного влияния тенденции прагматизма, — течения, обладающего известной внутренней силой именно вследствие своей связи с данными опыта, как императивными основами жизни, — на характер и направление философского сознания и вообще духовной жизни — следует отнестись возможно серьезнее к выдвинутой им основной проблеме о примате действия над созерцанием и полной зависимости последнего от первого. Самая проблема эта, конечно, не нова, и человеческое сознание здесь вступает на те же пути, по которым пыталось идти и раньше. Поэтому особенный интерес может возбудить в настоящее время личность и учение полузабытого на Западе (по крайней мере, до недавних лет) и совсем неизвестного у нас датского мыслителя Серена Кьеркегора (1813—1855 г.). Совершенно иначе, чем Джеймс, другим путем и с другими результатами он стремился разрешить ту же проблему синтеза философского созерцания и религиозного действия. И сама по себе личность Кьеркегора является настолько цельной философской натурой, а его учение настолько глубоко и оригинально, что труд изучения его может считаться вполне вознаградимым... *
* Датчании по национальности, Сёрен Оби Кьеркегор (Soren Aaby Kierkegaard) родился 5 мая 1813 г. в Копенгагене в довольно зажиточной купеческой семье. Благосостояние этой семьи было создано трудами отца философа, вышедшего из среды бедных ютландских крестьян. Суровый и сильный волей человек, он передал и сыну натуру волевого склада. Но обстоятельства детства (раннее одиночество, так как из многочисленной семьи отца при его жизни остался в живых лишь один старший брат философа, особенности воспитания, раннее развитие рассудочности и воображения) направили в нем всю силу волевого напряжения не на внешний мир, а по линии внутреннего экспе-
226
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
I
Есть два способа изложения своего мировоззрения: путем прямого и последовательного развития основных принципов и посредством разрешения каких-либо частных вопросов (иногда случайных) с точки зрения этих принципов. В первом случае получается ясная и точная система мировоззрения, во втором — отрывочное фрагментарное выражение его. Кьеркегор — писатель именно второго типа. Он нигде не дает систематического и связного изложения своего мировоззрения, даже более — принципиально отрицает возможность такого изложения, так как логическая система никогда не может охватить всего бытия («логическая система может быть, системы бытия нет»). Все его произведения — разрешения част-
р'и'м'ента, «душевного делания». Сосредоточение внимания и стремления во внутреннем фокусе душевной жизни окрасило затем общий фон ее в грустно-меланхолический оттенок, как это всегда бывает и в особенности проявляется у натур сложных и противоречивых, каким был Кьеркегор. Внутренняя дисгармония, вскрытая пред сознанием рано пробужденной рефлексией, осложнялась с детства воспринятым религиозным ригоризмом. Заложенная в глубине душевного уклада религиозность, как стремление к абсолютной .оценкежизни, .проявлялась у Кьеркегора в резком противоположении «божественного» и «человеческого». Абсолютная противоположность этих начал, с другой стороны, увеличивала в душе, таившей в себе устремление к тому и другому берегу, мучительное и скорбное чувство раздвоения и разлада. В своих многочисленных дневниках Кьеркегор дает понять всю глубину этих скорбных переживаний и называет себя «меланхоликом до границ действительной душевной болезни»; «я мог бы, впрочем, — замечает он, — стать жизнерадостным человеком, если бы не знал христианства». Устроению религиозной жизни из элементов жертвы, отречения и подвига в значительной мере содействовало близкое влияние на Кьеркегора его отца, всю свою долгую, восьмидесятилетнюю жизнь (умер <в> 1838 г.) носившего на себе бремя мук раскаяния за один несколько таинственный факт своей юности: мальчиком на холме среди ютландских степей он проклял Бога, пославшего ему жизнь, полную страданий и бедствий. Отца и сына соединяли узы крепкой и нежной любви, не переходившей, однако, по индивидуальным особенностям обоих, в полноту взаимного душевного растворения и проникновения; впоследствии Кьеркегор дал в своих произведениях поэтическое изображение той глубокой душевной драмы, которая имела место в жизни отца и болезненно отразилась в душе сына. Вот те основные элементы, сочетание которых образовало течение внутренней жизни Кьеркегора. Внешняя же его жизнь крайне скудна фактами. После окончания гимназии он, повинуясь общей тенденции своей внутренней жизни, избирает теологический факультет Копенгагенского университета. По окончании его в 1840 г. кандидатом теологии и получении в следующем году степени доктора философии за сочинение: «О понятии иронии в применении к Сократу» он живет без определенных занятий на небольшие средства, оставленные отцом, и весь поглощен внутренней работой над самим собой, разрешением задачи личного существования; одним из средств самопознания и самовоспитания для него является писательство, принимающее вскоре очень широкие размеры. Он пишет самые разнообразные по
227
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
ных вопросов. Кроме того, произведения Кьеркегора отличаются особенным свойством — своей символической псевдонимностью. В целом ряде своих произведений Кьеркегор представлял — в форме непосредственного поэтического или философского изложения — различные и даже противоположные типы философских жизне-пониманий, отмечая каждое из них особым псевдонимом, под которым он выпускал сочинение*. Под своим собственным именем он издал немного произведений, главным образом, в последние годы жизни. Развиваемые в псевдо-нимных произведениях доктрины и воззрения не принадлежат лично Кьеркегору, но тем не менее стоят в известном отношении к его положительным взглядам в качестве логически предшествующих моментов их развития, имея,
форме и внешнему характеру произведения: философские трактаты, поэтические этюды, проповеди и газетные статьи, — однако внутренне запечатленные единством настроения и идеи. Вся литературная деятельность Кьеркегора вытекала из его стремления найти и установить синтез «божественного» и «человеческого», христианства и мира, и по своему содержанию является попыткой оригинального примирения абсолютности первого с условностью второго. Из фактов внешней жизни Кьеркегора можно отметить лишь три: его помолвку с Региной Ольсен 10 сентября 1840 года и обусловленный особенностями его личности и направлением душевной жизни отказ от невесты 10 октября 1841 г. («doppelfactum», как называет эти события сам Кьеркегор, посвятивший им много страниц в своих дневниках и произведениях), недолгое пребывание в Берлине (1841—1842 гг.), где он слушал Шеллинга, и, наконец, его страстную и энергичную полемику с представителями официальной датской церкви, где он открыто и смело выставил свой тезис: «христианства Нового Завета в мире более не существует». Эта полемика, занявшая последние годы жизни Кьеркегора, была прервана его ранней смертью 11 ноября 1855 года. — Философское мировоззрение Кьеркегора было плодом его собственного внутреннего опыта, оно было выстрадано и пережито им. Но тем не менее на некоторых его сторонах не могли не отразиться внешние философские влияния, с которыми соприкасался Кьеркегор. И прежде всего здесь следует упомянуть о гегельянстве. Есть соприкосновение Кьеркегора и с Кантом. Кьеркегор живо чувствовал свое родство с философией чувства и веры, возникшей в конце XVIII в., и особенно ценил из ее представителей Якоби и Гамана. Вообще исторически Кьеркегор примыкает к тому романтическому движению (протекавшему в Дании несколько позже, чем в Германии), которое во всех областях духовной жизни обнаружилось, как стремление установить приоритет индивидуального, частного и конкретного и противодействовать нивелирующей и обобщающей тенденции авторитарных форм жизни и мысли. Из многочисленной датской и немецкой литературы о Кьеркегоре наиболее цельным и ценным трудом является книга известного проф. Гёффдинга — S. Kierkegaard som Filosof. Kjobenhavn, 1892 (нем. пер<евод> в серии Frommans, Klassiker der Philosophie, III). * Псевдонимы Кьеркегора были следующие: Victor Eremita, Constantin Con-stantius, Iohannes de Silentio, Vigilius Haufniensis, Nicolaus Notabene, Johannes Climacus, Hilarius Buchbinder, William Afham, der Assessor, Frater Taciturnus, Anti-Climacus, H. H., Inter et Inter.
228
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
кроме того, важное значение в деле раскрытия генезиса мировоззрения Кьеркегора. Но, конечно, совершенно невозможно рассматривать эти доктрины отдельно и обособленно от положительных убеждений Кьеркегора, который сам неоднократно и настойчиво заявлял, что все его мировоззрение может быть понято лишь с точки зрения его положительных убеждений и идеалов (религиозных по своему существу). Поэтому, чтобы понять Кьер-кегора, необходимо прежде всего отыскать в его мировоззрении такой пункт, который являлся бы связующим звеном среди различных до противоречивости положений и давал возможность представить все мировоззрение Кьеркегора, как связное целое. Областью, в которой можно отыскать такой пункт, является психология, а в ней — учение Кьеркегора о личности.
В противоположность современной Кьеркегору германской спекулятивной философии, переносившей объект философского знания в мир, как абсолютное целое, Кьеркегор является мыслителем, который в своем философствовании исходит из мира субъективной индивидуальности, внутреннего мира человеческой личности. Всякий человек по существу своему есть отдельная личность — individuum, — индивидуальность есть существенное определение человеческого существования (Sygdom-men til Doden, s. 227)*. Сознание человеком своей индивидуальности, того, что «он есть сам для самого себя» (ibid., s. 147), и есть то, что называют самосознанием или самостью. В акте этого самосознания следует различать две стороны: формальную и реальную. В отношении формальном здесь «общее поставляется как единое», поскольку все без изъятия содержание индивидуума возводится здесь в один общий синтез, который в то же время поставляется в абсолютно обособленной форме, вне всяких соотношений с чем бы то ни было, кроме самого себя. Это сочетание общего и единого в одном акте самосознания не подлежит научному объективному объяснению: тайну индивидуальности знает только индивидуум. Но самость
* Произведения Кьеркегора цитируются по: S.A. Kierkegaards Samlede Vaerker, udgivne af Drachmann, Heiberg og Lange. Forlag Gyldendalske Boghaudel's Bibliotheks og Volke-Udgave.
229
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
или самосознание есть не только процесс или акт, — как всякий процесс, и акт самосознания предполагает в качестве своей основы силу или энергию, производящую самый процесс. Сила, создающая индивидуальность, есть дух. Функция самосознания не может быть приписана никакому другому началу, потому что все виды бытия материального, подчиненные законам пространства и времени, не могут дать того сочетания общего и единого, которое является сущностью самосознания: материя ато-мистична и может допускать лишь сумму, а не синтез, в сумме же каждый элемент ее есть отдельное единое. Но, конечно, было бы противным очевидности утверждать, что человек есть чистый дух, — фактически он является тесно связанным с бытием материальным в своей телесности. Эта последняя не есть, впрочем, чистая форма материального бытия, элементы материального здесь даны в особой комбинации, которая делает возможными акты сознания, ощущения, представления и т. д., т. е. акты душевной жизни. Поэтому правильнее сказать, что в своей непосредственной данности человек есть душевно-телесное существо. Но как таковое, он еще не есть личность. Ею он является только потому, что в своей субстанциальности он есть дух, данный в душевно-телесной форме, или, как выражается Кьеркегор, синтез душевного и телесного в духе. Отсюда и самость или личное самосознание человека определяется, прежде всего, как сознанная духом сложность его составных элементов. Дальнейшее определение человеческой индивидуальности требует предварительного анализа природы духа, как основы синтеза самосознания. Природа духа определяется и отрицательно и положительно. В первом случае определение исходит из противоположения духа материи или душевной телесности человека. Являясь синтезом телесного и душевного в духе, человек в то же время есть синтез временного и вечного в мгновении, поскольку время есть общая форма материи. Но что такое время и вечность? Наиболее правильным определением времени (с которым совершенно тождественно и пространство) является то, по которому время есть бесконечная последовательность (SuccessionI) моментов, бесконечная их смена. Во времени нельзя установить никакого постоянного и неизменного пункта, хотя
I Непрерывный ряд (фр.).
230
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
бы на мгновение остающегося неизменяемым. Всякий момент есть сумма моментов и потому — процесс. Во времени, как таковом, «все течет», и поэтому не может быть разделения на настоящее, прошедшее и будущее. Вечное, напротив, есть в собственном смысле настоящее, потому что оно есть прекращение и отсутствие всякой последовательности и смены. Но, с другой стороны, в вечном, как настоящем an sichI, невозможны ни прошедшее, ни будущее, как результаты последовательности в отношении к какому-либо постоянному пункту. Человек, однако, в своем внутреннем опыте реально переживает чередование настоящего, прошедшего и будущего. Каким образом это происходит? С несомненностью проявляется здесь синтетическая природа человека, который составляет собою синтез временного и вечного. Вследствие того, что вечное проникает во временное, здесь устанавливается настоящее, как постоянный и неизменный пункт, но в силу условий времени, сохраняющего свою последовательность, это постоянство сменяется последующими моментами. Только при этом условии получает свой смысл троякое деление времени. В человеческой личности синтез временного и вечного осуществляется при посредстве мгновения. Мгновение не тождественно с настоящим и вообще не есть какая-либо категория времени, оно обозначает самый акт соприкосновения времени с вечностью. Синтез временного и вечного в форме мгновения и есть человеческая личность в мгновенном акте самосознания, не измеряемом никаким временем, поставляется единство духа с одушевленной телесностью. С другой стороны, это есть синтез конечности и бесконечности, возможности и необходимости. Самость, являясь соединением конечной телесности с бесконечным духом, этим уже намечает в самых общих чертах свою телеологию: соединение конечного с бесконечным должно разрешиться в чисто бесконечный синтез, возможность чего дана именно в том, что конечность (одушевленная телесность) в акте самосознания воспринимается бесконечным (духом). Но нельзя забывать того, что в этом разрешении в бесконечный синтез человеческая личность не должна утрачивать свойственного ей характера (т.е. не должна становиться чистым духом) и, следовательно, элемент конечности не должен быть
I Вещь в себе (нем.).
231
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
уничтожаем. Телеологическое развитие личности должно выражаться в возвышении душевно-телесного элемента в сферу духа и проникновении его чистой идеальностью последнего*. Это и выражается формулой: «самость есть необходимость, поскольку она есть, и она есть возможность, поскольку она должна стать тем, что она есть»**. Связующим и объединительным началом действительной человеческой личности является дух, как основа синтеза, представляемого самостью (или индивидуальностью). Но эта последняя, как синтез (т.е. действие), есть нечто динамическое, есть активность. Следовательно, дух, как основа синтеза самости, должен являться началом действующим (активным). Активность, как свойство духа, есть воля (в мире материальном — сила). Так уже из самого понятия о личности мы приходим к весьма важному выводу о волюнтаристической природе духа. Самосознание — не созерцание, но акт и действие, поэтому лежащая в основе его воля есть сущность человеческой личности, проявляющаяся во всех явлениях ее жизни, освещенных самосознанием. Человек есть Villiesmenneske, ein Willensmensch. Что касается характера проявления воли, как сущности индивидуума, то он определяется терминами: искренность (Innerlighed) и серьезность (Alvor). Первый термин касается отношения индивидуума к объекту — это отношение, сообразно с волюнтаристической природой индивидуума, принимает форму решения положительного или отрицательного; субъект должен выбрать то или иное личное отношение к объектам, должен всегда «находить самого себя» в объекте. Центр тяжести здесь лежит, однако, не на результате выбора и решения, а на самом выборе и внутреннем процессе решения. Суть дела здесь — в желании выбирать, чистом акте выбора, «в духовном крещении воли человека»***. Поэтому «искренность» (Innerlighed) решения есть лучшая форма проявления личности****. Но такое проявление есть в то же время явление (или становление) самой личности, как духовного синтеза. Акт решения не только устанавливает
* Kjerlighedens Gjerninger. II. 202. ** Sygdommen til Doden. S. 148. *** Enten-Eller. II. S. 154.
**** Эта идея, как известно, положена в основу «Бранда» и «Пер Гюнта» Ибсена, хотя последний отрицает свою зависимость от Кьеркегора (Письма Ибсена. Собр. соч. Изд. Маркса. Т. IV. С. 371).
232
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
отношение личности к объекту, но устанавливает самую личность, как осуществленный (реальный) синтез «временного и вечного в духе», — отсюда эти акты воли получают значение не только практически целесообразных действий, но условий бытия или небытая самой личности, и в этом их «серьезность». «Серьезность есть высшее и глубочайшее выражение духа», «серьезность означает самую личность» (Begrebet Angest169, s. 414). Из сказанного следует, что человеческая личность, как волюнтаристический синтез духа, не есть что-либо данное само по себе, а является результатом процесса, становления, а потому имеет свой генезис. Начальным пунктом этого генезиса является «состояние невинности», когда дух дремлет, находясь в покое и мире и ничем не обнаруживая активно своего значения, как основы синтеза личности. В состоянии невинности человек определен не как духовное, а как душевное существо — в непосредственном единстве с телесностью. В этом состоянии дремоты дух, однако, проецирует перед собой свою действительность, как возможность. Этой действительности еще нет, она — ничто,нопроецирование ее дремлющим духом есть страх (Angest) перед нею, как возможностью (в отличие от Frygt (нем. Furcht), как страха перед реальным объектом). Эта возможная действительность, которую дух в страхе проецирует перед собой, есть возможность ч и стой свободы,потому что сущность духа есть в о л я. Возможность свободного активного действия, с одной стороны, привлекает человека, с другой — пугает. Поэтому и самый страх является «симпатической антипатией и антипатической симпатией» (Begrebet Ang<est>, s. 313). Наличность в страхе двух одинаковой степени противоположностей лишает его значения мотива (аннулирует его психологическую ценность). Поэтому возникающее активное решение, как реальное осуществление возможности свободы, не стоит в причинном соотношении со страхом, а есть психологический «скачок». Активность «скачка» выводит дух из пассивного состояния дремоты и ставит в реальные отношения к тем двум составным элементам личности — душе и телу, в сфере которых осуществляется решение духа. Этот синтез душевно-телесного в духе есть в то же время разграничение чувственного и душевного элемента от духа, определение границ одушевленной телесности и духовности.
233
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
Выражением этого разграничения служит п о л , который есть не что иное, как аналитическая граница чувственности (одушевленной телесности), каковую границу человек устанавливает лишь тогда, когда реально становится духом. Поэтому в поле дана противоположность (двупо-лость), как результат разграничения, но, как во всякой противоположности, в нем замечается необходимость диалектического развития, т.е. синтеза противоположностей, — этот синтез есть задача пола, р о д — результат выполнения этой задачи, и с т о р и я — бесконечный процесс осуществления задачи. Отсюда определяются и отношения индивидуума к роду. Индивидуум принадлежит к роду по своему происхождению и как составная его часть. Но и сам род своим начальным происхождением и фактическим существованием обязан индивидууму и, следовательно, является производным по отношению к нему элементом. Реальность свою род получает лишь в индивидууме, вне которого он есть только абстрактное понятие; индивидуум — это «он сам» и вместе «весь род». Такое сочетание противоположных определений в одном элементе заключает в себе диалектическую задачу и, следовательно, движение, как процесс ее разрешения, т.е. историю. Исходным пунктом истории является индивидуум, он есть и активный творец ее. Каждый индивидуум имеет перед собой свою личную задачу — стать личностью, и каждый осуществляет ее совершенно независимо от других, на основе полной личной свободы. Но это не эгоистическое обособление каждого от всех; задача у всех одна и та же, и потому, несмотря на абсолютный индивидуализм в осуществлении ее, все связаны между собою общим историческим цементом. Так понимаемая история есть царство безусловной свободы и свободной телеологии, и прогресс здесь осуществляется посредством личного свободного и потому трансцендентного действия, а не путем необходимого и потому имманентного общего развития. Но кроме этой истории, создающей качественные ценности в области индивидуальной жизни, есть общая история рода. Здесь индивидуум — только часть общего целого, от которого он стоит в зависимости. Но этот общий родовой исторический процесс, основанный на необходимости закономерного развития, не приходит в столкновение со свободной индивидуальной историей,
234
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
потому что касается не качественных ценностей, а количественных определений, т.е. чисто внешней стороны жизни (экономической, политической и т.д.). Для личности в ее качественном творчестве этот исторический процесс и создаваемые им формы жизни не имеют причинного значения, создавая лишь возможность психологических прецедентов, предшествующих индивидуальному свободному решению, но не стоящих с ним в причинной связи (как «страх»).
Итак, человеческая личность обладает исключительной ценностью — психологической и исторической. Она— высшая форма духовной жизни и единственный творческий фактор истории. Но было бы ошибочно мыслить эту личность, как метафизическую субстанцию, наполняемую психологическим или историческим содержанием, по отношению к которому она являлась бы как бы носителем. Не только самое это содержание творится или продуцируется личностью, но и сама она есть нечто динамическое и активное, возникающее, а не данное. Данной является лишь потенциальная основа личности — дух. Поэтому сущностью личности и является начало активное — воля. Можно сказать, что личность — не отвлеченный субстрат, а реальное действие. Но тем не менее, Кьеркегор сделал известные метафизические выводы из своего учения о личности. И прежде всего он подвергает понятие личности онтологической оценке.
Всякая онтология исходит из общих аксиоматических положений. Керкегор в качестве таких положений выставляет понятия о бытии и сущности или фактическом и существенном бытии. Первое носит форму быва-ния, постоянного перехода от возможности к действительности, но не заключает в себе никакой необходимости. Бытие, обладающее внутренней ценностью и, следовательно, имманентной необходимостью, есть бытие существенное (или сущность). Сущность не подлежит изменению и по своей внутренней стороне определяется тем, что «она постоянно относится к самой себе и всегда одинаковым образом» (Philos<ophiske> Smuler170, s. 241). Поэтому между бытием и сущностью не может быть внутренней связи: бытие в процессе последовательных перемен, создающих своими взаимоотношениями внешнюю свою ценность, никогда не станет неизменяе-
235
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
мой сущностью с ее имманентной внутренней ценностью; эта последняя никогда не разложится на ряд моментов внешнего бытия. Вглядываясь в эти онтологические категории, нетрудно усмотреть, что они представляют собой отраженные в метафизической рефлексии данные внутреннего опыта; акт волевого напряжения, устанавливающий бытие личности, есть акт с имманентной внутренней ценностью, не связанный причинным отношением ни с одним из элементов сознания, это внутренне необходимый акт свободы.В сравнении с ним все другие элементы сознания суть взаимно связанное отражение инобытия, не обладающего внутренней необходимостью, а являющегося проникнутым бесконечной внешней взаимной зависимостью своих элементов. Свободно осуществляя в актах воли свою внутреннюю ценность, личность есть именно то бытие сущности (или существенное), «которое постоянно относится к самому себе и всегда одинаковым образом», притом не в смысле абстрактной схемы, а в качестве конкретной действительности. Эта область конкретного личного бытия, внутренне необходимого и самоценного, есть поэтому область абсолютного, т.е. независимого и подлинного бытия. «Абсолют — это я сам, — говорит Кьеркегор, — в вечном значении человека». «Всякий отдельный человек должен быть "абсолютом"» (Enten-Eller, II, 192. Indovelse i Christendom171, s. 86). Абсолютность личности лучше всего выражается в том, что она есть Egenvaesen (нем. das Eigenwesen) — самосущество, — безусловное самоотношение (отношение к самому себе), исключающее всякое постороннее влияние и изменение (ibid.). Акты воли, являющиеся «скачками», поэтому лучше всего выражают абсолютность личности (почему и придается им характер «серьезности»). Таким образом, абсолют есть не всеобщее тождество и универсальное единство, в котором сглажены все различия, — такого и не существует, а конкретное многообразие индивидуальной действительности, понятой, как проявление воли*. — Живая конкретная личность, понятая как конкретная активность, есть абсолютное «существенное» бытие. Следовательно, единственной формой проявления этого бытия является форма проявления личной воли, именно форма в ы б о р а и р е ш е н и я. Так как чистая воля есть чистая свобода, то
* Ср. критику абсолюта у Джеймса.
236
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
ее проявление (т.е. решение) и возможно лишь при условии в ы б о р а одной из всех возможностей, ей представляющихся. Выбор предполагает противоположность объектов, на которые он направляется, и противоположность соответствующих им определений воли. Решение есть результат выбора и устранение противоположностей. Как происходит это устранение? Индивидуальность, как существенное бытие, подчинена в своем динамическом процессе иным условиям и формам, чем сфера фактического бытия. В области природы господствует органическое развитие — эволюции начальных элементов из их первоначального зародышевого состояния, т.е. развитие имманентное. Другая область фактического бытия — действительность логическая (хотя, как увидим ниже, это весьма условная действительность) — также представляется как фактическое и имманентное движение или развитие наличных элементов (понятий), хотя на самом деле здесь нет никакого развития. Сфера подлинного бытия, т.е. духовная жизнь личности, есть прямое отрицание имманентного развития. Прежде всего здесь — действительные и реальные противоположности, прямо и непосредственно исключающие друг друга, а не соотносящиеся как количественные разности одного и того же момента (органическое развитие в природе) или как формы чисто логического отрицания. Реальность противоположностей обусловливается здесь их качественным характером: моменты внутренней жизни индивидуума, осуществляемые его волей, различаются своим содержанием. Актом решения создается новое качество, но самый акт этот не вытекает ни из чего предшествующего и не обусловливает собою ничего последующего. Поэтому за одним актом может последовать другой, ему противоположный, и создать новое противоположное качество. Всякое новое качество есть устранение прежнего, ему противоположного, но возникает оно вне всякой зависимости от последнего. Процесс развития носит, таким образом, характер прерывной пульсации, моменты которой взаимно противоположны, но независимы. Вместо переходов имманентной диалектики здесь, таким образом, дается м г н о вение «скачка», в котором происходит реализация «сущности», т.е. воли. Поэтому мгновение волевого скачка имеет метафи-
237
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
зическое значение, есть «атом вечности»*. Но при всей своей противоположности составные элементы индивидуальности (волевые акты, решения) находят свое общее ограничение в общей сопринадлежности к одной и той же индивидуальности, ни один из них не может, следовательно, стоять в отношении к другим в абсолютной дисгармонии. Индивидуальность в ее целом также не может находиться в абсолютной дисгармонии ни по отношению к фактическому окружающему бытию, вследствие полной несоизмеримости последнего с бытием существенным и неприменимости к нему законов качественной диалектики, ни по отношению к другим индивидуальностям в силу равенства и субстанциального тождества с ними. Между тем абсолютная дисгармония или абсолютная противоположность есть, с одной стороны, высшее проявление закона качественной диалектики, с другой — высшая форма самоутверждения личности, поскольку примирение в акте воли абсолютной противоположности требует наивысшего напряжения воли. Человеческая же личность не есть нечто данное, а постоянно становящееся и, следовательно, лишь постепенно достигает своего самоутверждения. Отсюда возникает необходимость поставить самоё личность, какое целое, в отношение абсолютной дисгармонии или противоположности к объекту, абсолютному реально (а не в потенции), так, чтобы разрешение этой противоположности (в форме выбора и решения), производимое самой личностью, возводило ее на высшую ступень абсолютности. — Так возникает из самой природы личности постулат, или требование реальной абсолютности, и метафизическое отражение этого требования является в форме учения о Боге, как абсолютном существе и абсолютном моменте того дисгармонического отношения, которое постулативно поставляется волевой природой человеческой личности и формой ее динамики (т. е. качественной диалектики).
Различие между абсолютом и человеком — качественное, а не количественное. Естественному человеку абсолютное столь же чуждо, как прямое хождение собаке. Поэтому не только исключается всякая возможность непосредственного соприкосновения человека с абсолютным (наприм<ер>, в познании его), но последнее
* Begr<ebet> Angest. S. 350—361. Такое понимание мгновения Кьер-кегор возводит к Платону.
238
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
необходимо возбуждает в человеке, как сила противодействующая и противоречивая, сопротивление и отпор. Абсолютное является для индивидуальности, ее рассудка, чувства и воли в качестве безусловного парадокса (Philosoph<iske> Smuler, III, 204 ff.). Поэтому естественная реакция человека по отношению к абсолютному — соблазн. Однако этим первым отрицательным моментом диалектика отношений человека к абсолютному не заканчивается. Она должна завершиться синтезом данных противоположностей, и именно подчинением высшему началу — абсолютному — начала низшего — человеческой индивидуальности. Но это подчинение не может быть ничем иным, как только свободным актом решения самоподчиняющейся личности. В этом акте оставляется во всей своей наличности абсолютная дисгармония, сохраняются ее крайние моменты — Бог и человек, но радикально изменяется отношение человеческой личности к Богу: место соблазна заступает вера. Эта-то вера, принятие абсолютного, несмотря на его абсолютную противоположность человеческой личности, и есть тот maximum волевого напряжения, который необходим, чтобы поставить личность во всей полноте ее сущности. Подчиняя себя абсолютному, личность в то же время достигает высоты своего самоутверждения. Вследствие такого завершительного своего значения этот диалектический синтез человеческой индивидуальности с Абсолютом (Богом), постулатом и вместе отрицанием личности, синтез, религиозный по своей природе, является для человека его конечным идеалом.
В этом пункте метафизика переходит в этику, как нормативное изображение того процесса, посредством которого совершается достижение человеческой личностью ее идеала. Но прежде чем мы перейдем к изложение этой части мировоззрения Кьеркегора, наиболее им обработанной, следует сделать общее заключение о сущности знания вообще и значении философии в частности. Здесь прежде всего требуется установить понятие истины. Внутренний источник, питающий мировоззрение Кьерке-гора, есть живая субъективная действительность, опытно переживаемая в сознании и самосознании личности. В метафизической оценке эта действительность является «существенным бытием» или сущностью, — единствен-
239
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
ным подлинным бытием, имеющим в себе самом свою ценность. Понятно, что это самоценное бытие есть и единственная объективная истина. Поэтому гносеология Кьеркегора начинается тезисом — «субъективность есть истина» (Afslutt<ende> uvid<enskabelig> Efterskr<ift>172, с. II, p. 166). По своему содержанию эта истина есть заключенная в рамки индивидуального самосознания процессу-альность волевых переживаний, подчиненных законам качественной диалектики. Поэтому тезис «субъективность есть истина» дополняется другим — «истина есть жизнь» (Indovelse i Christ, 189). Жизнь личности есть чистая процессуальность, масштабом ее ценности является степень ее диалектической интенсивности, а не объективный результат ее развития сам по себе (этот результат достигается вместе с maximum'ом интенсивности, но ценность для личности, как мы видели, имеет собственно этот последний). Поэтому «истина есть путь и жизнь» (ibid., 190). Но индивидуальность, являясь истиною в объективном смысле, в то же время, как сознающее, самосознающее и свободное начало, может иметь, во-первых, субъективное отношение к истине, как объекту, во-вторых, реа-лизировать истину, как свою обективную сущность, в своем существовании. В чем же и как должно выражаться отношение индивидуальности к истине, как объекту? Этот объект — сама индивидуальность в ее идеальной природе, в телеологическом моменте ее существа. Поэтому рассматриваемое отношение прежде всего должно выражаться в обращении индивидуальности к самой себе. Отсюда отличительным признаком нормального отноще-ния индивидуума к истине является личная заинтересованность в ней индивидуума. Отношение индивидуума к истине вообще есть ее знание или познавание. Так как единственная истина — субъективность, то единственным подлинным или «существенным» знанием является основанное на личной заинтересованности познание личного существования и его форм. Знание, направленное на предметы, никакого отношения к личности не имеющие и не затрагивающие интересов личного существования человека, есть знание «несущественное», — чуждое познания истины. Так как высший момент индивидуальности — ее синтез с абсолютным — есть момент религиозный, то существенное знание, имеющее своим объектом
240
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
индивидуальность в ее телеологии и динамике, есть знание этико-религиозное. Это этико-религиозное знание носит совершенно иной, чем обыкновенное теоретическое познание, характер. В основе его лежит акт «выбора самого себя в абсолютном смысле», т. е. категорического утверждения абсолютного (в ранее показанном смысле) значения своей личности. Этот выбор есть акт воли. Перенесенный в сферу сознания, как основа этико-религиоз-ного существенного знания, этот волевой акт принимает форму веры, как познавательного начала. Абсолютное значение личности не может быть дознано и воспринято путем интеллектуальным, так как оно есть реальность, факт, всякое же интеллектуальное знание есть оторванная от реальности гипотеза, есть в о з м о ж н ость, а не действительность. При этом рассудочное знание имеет дело с общим и абстрактным, подлежащая же абсолютному утверждению индивидуальность есть конкретная единичность (Enten-Eller, II, 193). Лишь верой, как актом волевым, индивидуум утверждает абсолютное значение своего «я» и полагает это утверждение в основу своего «существенного» знания. Таким образом, для субъекта истина есть продукт его собственной активности — решения (выбора) и веры, и только установленная путем такого непосредственно личного процесса она может иметь для субъекта значение истины. Поэтому первый гносеологический тезис — «субъективность есть истина» — вполне допускает и обратную формулировку: «истина есть субъективность». Все то, что не является активно созданным самой личностью, не может иметь для нее значения истины (Indovelse i Christ<endom>, 186-192), равно как и истина, как продукт самодеятельности индивидуума, существует только для него. Отсюда следует, что прямое и непосредственное сообщение и воспринятие истины, как готового результата, от одного лица другим — невозможно. Так как истина есть путь, а не результат, то усвоение индивидуумом истины состоит в самостоятельном «повторении» им процесса ее приобретения, в репродуцировании истины; внешнее сообщение может служить лишь поводом и вспомогательным средством к возбуждению процесса «повторения», который каждым производится сызнова, — опыт предыдущих поколений не имеет существенного значения. Этим подлинное этико-религиозное
241
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
знание и отличается от знания интеллектуального, которое может распространяться внешним экстенсивным способом (Den Enkelte173, s. 596-7). Но этого рода знание не имеет никакого отношения к подлинной истине. Интеллектуальное знание есть продукт мышления. Существенным признаком мышления является его законченность и неподвижность, понятия суть заключенные равенства, взаимно относящиеся по закону тождества и противоречия. В мышлении исключается всякий действительный динамизм, процессуальность. Следовательно, создать адекватную действительности с и с т е м у б ы т и я з н а -ние не может. Логическая система, создаваемая мышлением, как законченное и неподвижное целое, выраженное в абстрактной и общей форме, есть прямое отрицание непрерывного потока реальности, вечного кипения жизни, проявления ее единичных и конкретных сил. Только для мышления, чуждого абстрактности, общности и точно отражающего конкретную единичность действительности, возможно адекватное отношение к бытию. Но такое мышление принадлежит только Богу, Который воспринимает и созерцает каждую индивидуальность действительности («все отдельное») во всей ее самостоятельности и различности, не сливая ее с другими элементами действительности. Если интеллектуальное познание бессильно охватить реальное бытие, то как относится оно к бытию того абсолютного, которое является постулатом реальной воли? Представляя само по себе цепь взаимных условий и следствий, рассудочное знание условно и в самом своем существовании, как логической системы. Эта сплошная условность мышления и знания постулативно заключает в себе, однако, признание необходимости безусловного и абсолютного, потому что условное и возможное не может существовать без абсолютного и действительного, как своей основы, своего «якоря». Но постулируя необходимость абсолютного, как своей собственной основы, рассудок в то же время видит, что это абсолютное должно быть во всех отношениях качественно и абсолютно отлично от него самого, потому что при самом малейшем сходстве с рассудком абсолютность уничтожается. Поэтому абсолютное является как необходимая граница рассудка, абсолютно отличная от него («гетерогенная») и потому абсолютно неизвестная.
242
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
Отсюда возникает диалектическое отношение рассудка к абсолютному: рассудок и влечется к нему, как к своей необходимой границе, и отталкивается от него, как начала гетерогенного (это и есть «интеллектуальный пафос»). Абсолютный парадокс, граница разума и познания, иррационален по самому своему существу, — поэтому познавать его — для рассудка значит или отрицать самого себя, или рационализировать абсолютное. Но не только абсолютное немыслимо для рассудка в своей реальной определенности, самое объективное бытие его не обладает рациональной доказуемостью. Бытие и мышление — сферы не только различные, но качественно противоположные, и потому из понятия никогда не может быть выведено бытие. Всякое логическое заключение о существовании чего-либо основывается на предварительном нелогическом допущении такого существования и потому является не заключением к бытию, а выводом из бытия. Поэтому всякая рассудочная аргументация бытия абсолютного (или Бога) покоится на недоразумении. Бытие Бога привносится здесь самим доказывающим в тот момент, когда он начинает доказывать, посредством «скачка» из логической сферы в область действительности*.
II
Процесс активного развития человеческой личности, достигающей абсолютного самоутверждения в акте подчинения абсолютному, совершается в области в о л и идействия, а жизнь воли состоит из чистых актов свободного решения, не находящихся в цепи общей психологической связности, но изолированных и самобытных. Не только идеи и чувства не стоят в реальном причинном соотношении с волевыми актами, но и эти последние не имеют между собой никаких реальных связей, являясь лишь моментами качественно-диалектического процесса. Отсюда развитие личности в целом представляется не имманентной эволюцией, а сменой отдельных моментов, из которых каждый последующий является высшей ступенью в приближении к идеалу. Эти моменты суть формы личного существования индивидуума, сменяющиеся на основании его свободных решений (посредством «скачка»), проходимые человеком «стадии на жизненном пути»
* Philosoph<iske> Smuler. P. 211 ff.
243
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
(такое название и носит то произведение Кьеркегора, в котором схематически изображается процесс развития личности), единственным связующим началом которых является лишь субъект, их переживающий.
Началом всякого развития является налично данное непосредственное состояние субъекта развития. Эта первая непосредственная стадия развития личности есть стадия эстетическая. Кратко и точно формулированным общим определением этой стадии является положение: «в эстетической стадии человек является непосредственно тем, что он есть» (Enten-Eller, II, р. 161). Но почему такое непосредственное состояние называется эстетическим? Так как непосредственность в личности приложима лишь к низшим элементами ее (душевно-телесным) и дух сам по себе непосредственным быть не может, то основным содержанием сознания в этой первой стадии, когда отсутствует еще возведение элементов личности в абсолютность духа, являются налично данные ощущения, которые оцениваются именно по их непосредственному субъективному характеру, приятному или неприятному, — и в силу естественного инстинкта личность признает высшую ценность за ощущениями первого порядка. Отсюда вытекает и основной принцип эстетического жизневоззрения — наслаждение. Эстетическое существование построено на искании наслаждений, но так как всякое наслаждение мимолетно и быстро сменяется скукой и разочарованием, то в интересах эстетики — наиболее полно использовать непосредственный момент наслаждения и избежать его неприятных спутников, неотступно идущих за ним. Отсюда правило жизни: жить минутой и, исчерпав ее, тотчас же переходить к другой. Жизнь должна представляться калейдоскопом наслаждений — отдельных и независимых, поэтому она не может, с эстетической точки зрения, быть привязанной к какому-либо одному определенному объекту. Эстетик не имеет и «памяти жизни»: он все забывает тотчас же, как проходит минута наслаждения*. Построенная на таком начале эстетическая жизнь весьма удачно называется термином «плодопеременное хозяйство» («севооборот») — (Vexel-Driften, нем. Wechsel-Wirtschaft — заглавие 7-й ст. I ч. — Enten-Eller). Быстрая смена положений, отношений и свя-
* Enten-Eller, 264-5.
244
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
зей, искусство забвения и воспоминания — вот мудрость жизни. Исходя из нее, эстетик, чтобы выполнить свое высшее призвание — быть лишь касательной к кругу жизни — прежде всего стремится сохранить и обеспечить свою свободу и потому тщательно избегает вступать в такие жизненные положения, которые отнимают эту свободу и налагают прочные и постоянные обязательства. «Остерегайся поэтому дружбы», говорит эстетику его мудрость*. Но этот совет не означает того, что нужно жить без всякого соприкосновения с людьми. Напротив, отношения к людям могут иногда принимать и весьма близкий и интимный характер, но только нужно сохранять постоянную возможность прервать эти отношения, лишь замечено будет, что в них вкрадывается скука, равнодушие и т.п. Не следует бояться, что такой разрыв оставит по себе неприятные воспоминания — неприятное можно забыть или, наконец, даже и использовать его, как «пикантный ингредиент среди тягостей жизни»**. Больше всего должно опасаться брака, когда обещают друг другу любовь и верность навеки. Но избегать брака вовсе не значит лишать жизнь эротического элемента. Напротив, эротика представляет богатейший, никогда не исчерпаемый материал для эстетических наслаждений, нужно только уметь хорошо пользоваться им. Эстетик поэтому является соблазнителем. Недосягаемым идеалом соблазнителя и вместе наивысшим воплощением эстетического жизневоззре-ния является Дон-Жуан, а опера Моцарта «Дон-Жуан» — гениальнейшим музыкальным выражением эротической чувственности (характеристике Дон-Жуана и оперы Моцарта с этой точки зрения посвящена одна из лучших статей в Enten-Eller174). По богатству психологических переживаний процесс обольщения девушки — высшая форма эстетического существования («Дневник обольстителя» в Enten-Eller). Наконец, опасным для эстетика положением является призвание и всякого рода обязательная деятельность. Можно стать маленьким колесом вгосударственной машине, но зато тогда перестанешь быть господином собственного хозяйства. Но эстетик — не бездеятелен, он лишь во всяком деле ищет наслаждения и охотнее всего занимается «свободными искусствами».
* Ibid., 267. ** Ibidem, 266.
245
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
Все эстетические наслаждения, каковы бы они ни были, обладают одним существенным и определяющим признаком — условия для наслаждения лежат не в субъекте, а вне его, или если и находятся в нем, то все-таки не зависят от него самого*. Этот признак неотъемлем и от таких эстетиков, которые не ищут прямых наслаждений в богатстве, власти, красоте, здоровье и т.п. Так как вследствие не зависящих от человека внешних условий никогда нельзя достигнуть полноты удовлетворения всех желаний, то более утонченные эстетики следуют правилу — наслаждаться не тем, что обусловливает данное наслаждение, но самим собою в положении наслаждающегося**. Но и здесь — в зависимости от внешних условий стоит привести себя в такое положение. Этой зависимости не устраняет даже искусство по произволу отыскивать наслаждение в неприятных и досадных предметах, при помощи фантазии создавать сферу возможностей и наслаждаться их свободной игрой, так как материал для этой работы фантазии дается извне. Даже древние циники, стремившиеся к возможно большему уничтожению внешних условий, от которых зависит наслаждение, подчинены внешней зависимости, потому что maximum наслаждения здесь зависит от того, насколько удается человеку уничтожить внешние условия наслаждения***. Таким образом, содержание жизни в эстетической стадии создается отношением индивидуума к чему-либо внешнему, а не внутренним диалектическим действием самого индивидуума. Дух, как сущность индивидуума, еще не находится в процессе диалектического движения в направлении к абсолютному самоутверждению личности. Поэтому, — говорит Кьеркегор, — эстетик недиалектичен в себе и стоит в диалектическом отношении к внешности****. Но при всей своей неподвижности эстетическое существование создает, однако, такие душевные образования, который являются психологическими прецедентами перехода личности путем активного решения из эстетической в следующую стадию — этического характера. В духе, как основе человеческой личности, заложена неискоренимая потребность поступательного движения в направлении к коне* Enten-Eller, II, 163. ** Ibid., 172. *** Ibidem, s. 172.
**** Afsluttende uvidensk<abelig> Efterskrift. S. 376.
246
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
чному абсолютному синтезу всех элементов человеческой природы. Поэтому, независимо от самого человека, завершением эстетического периода его жизни является пробившееся из-под коры непосредственности сознание ненормальности зависимости духа, как вечной сущности, от всего внешнего, чувство духовной неудовлетворенности и утомления от постоянного переживания эстетических ощущений. Результатом этого психологического процесса является овладевающая человеком меланхолия, неопределенная и беспредметная тоска. Если человек не сбрасывает с себя этой тоски усилием воли, абсолютным выбором самого себя в своем вечном значении духа, то гнет меланхолии, все увеличиваясь, постепенно приводит человека в состояние полного отчаяния*. Отчаяние — очень важная психологическая категория и возникает оно вследствие того, что человек, сознавая свою высшую духовную природу, замечает в своей внутренней жизни несоразмерность, дисгармонию, разделение между тем, что он есть и тем, чем он должен быть**. Интенсивность отчаяния возрастает с повышением духовного самосознания человека. Низшей формой отчаяния бывает состояние, когда человек живет еще только как душевно-телесное существо, не сознавая своей духовности и абсолютного значения; это отчаяние объективное. Человек живет как бы в подвале собственного дома, назначенного для него, как абсолютного синтеза душевной телесности в духе***. Высшая форма отчаяния — соединенное с ясным самосознанием стремление удержать свою непосредственность и нежелание быть тем, чем должно быть. К такому демоническому отчаянию неизбежно приходит каждый эстетик, если только он актом воли не выйдет из эстетической сферы. Но, с другой стороны, отчаяние и необходимо, потому что оно является именно той психологической обстановкой, в которой может возникнуть активное решение, означающее полный разрыв с эстетическим жизнепониманием, переход в противоположную форму существования. Эта форма — этическая стадия развития человеческой личности. Но прежде чем человек совершит такой переход, он должен сознать необходимость его. Воз* Прекрасное поэтическое выражение эстетической меланхолии представляют собой «ДитфаХцсста» (1-я статья, I ч. Enten-Eller). ** Sygdommen til Doden. S. 129 ff. *** Ibidem, s. 155-6.
247
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
никнув на почве отчаяния, это сознание проявляется в форме иронии. Coзнав высшую ценность человеческого духа и необходимость ее реализации, но не переведя еще этого сознания в действительность, индивидуум относится к своему наличному внешнему состоянию и вообще ко всему внешнему бытию, как к чему-то неистинному, неподлинному, не имеющему никакой ценности; настоящая, подлинная ценность теперь — внутри его самого, она совершенно несоизмерима со всей внешней наличностью и не может быть выражена в ней. Несоизмеримость внутреннего содержания с внешней действительностью и вытекающая отсюда необходимость скрывать это содержание, как драгоценное сокровище, внутри себя и вследствие этого становиться в диалектически-двусмысленное отношение к действительности и создают иронию, как психологическую форму жизни.
Для вступления в этическую стадию индивидуум должен актом решения «выбрать самого себя в абсолютном смысле», т. е. не только признать, но и деятельно проявить себя в вечном значении духа, с подчинением духовной стороне человеческого существа его душевно-телесной природы. Эта духовная сторона берется как непреходящая объективная ценность, обладающая абсолютным значением. Смысл этического существования и состоит в утверждении за духом, в эстетической стадии не проявлявшимся, его абсолютности. Подчиняя себе низшие элементы человеческого естества, дух является здесь основой внутреннего диалектического процесса, но сам по себе он недиалектичен, т.е. не заключает в себе посту-лативного перехода к чему-либо третьему. Здесь самоутверждение личности имеет прямой и непосредственный характер. Формула, определяющая этическую стадию, поэтому такова: «этическим началом является в человеке то, благодаря чему он с т а н о в и т с я тем, чем он становится» (Enten-Eller, II, p. 161, 227). Целью личности в этической стадии служит стремление совершенно освободиться от всякой внешней зависимости, так как «личность здесь является абсолютом, имеющим свою телеологию в самом себе» (ibidem, s. 236). Однако эстетические категории, основанные на внешней зависимости, здесь не уничтожаются совершенно, получая лишь иное значение. Акт свободного решения духа, прилагаемый к этим кате-
248
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
гориям, поднимает их из эстетической в этическую сферу. Так, эротика в этической стадии является в форме брака, потому что к любви, как к простой чувственной влюбленности, здесь присоединяется акт свободного выбора и решения. Равным образом, и все другие формы внешнего существования человека — его занятия, призвание, обязанности семейные, общественные, государственные — получают значение этических форм жизни, если они свободно выбираются и осуществляются человеком. Эти определенные и постоянные формы жизни суть общечеловеческие, а не индивидуальные формы, но «общечеловеческое» здесь не подавляет и не уничтожает индивидуальных особенностей, потому что выбирается человеком на основе его личного решения. Этическое решение делает «общее» личным, поэтому в этике не может быть речи о долге, как о чем-то внешнем и суровом по отношению к личности: долг человека есть долг его по отношению к самому себе, и хотя он и осуществляется в общих для всех формах. Отсюда следует тот вывод, что положительным реальным содержанием этической жизни (т.е. добром) является свободная реализация индивидуальным духом своей идеальной сущности — «добро есть свобода in con-creto» (Begrebet Angest, 379), а отрицательной этической категорией (злом), в противоположность этому, нужно назвать нежелание индивидуума быть тем, чем он должен быть, или желание остаться тем, что он есть. Таким образом, добро и зло одинаково поставляются актом воли, а не суть трансцендентные метафизические категории. Однако, вследствие того, что индивидуальное существование есть единственное подлинное бытие, а высшего напряжения это индивидуальное существование достигает в акте свободного самоосуществления (т.е. в добре), то «добро существует само по себе и обусловливается существующею также сама по себе и для себя свободою» (Enten-Eller, II, 201). Как же осуществляет индивидуум свою этическую задачу? Этическое решение есть внутренний акт, который необходимо перевести в реальную действительность, т. е. повторить в ней то, что было антиципировано в решении в качеств возможности. Процесс такого «повторения» и отличает по существу этика от эстетика, который живет отдельной минутой и потому не знает повторения. При этом этическое повторение, как и решение, является
249
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
чистым актом воли, не обусловленным никакими психологическими мотивами (напр., чувством удовольствия); оно означает внутреннюю цельность человека, который никогда не позволяет себе увлечься минутными мотивами и забыть о главном деле своей жизни — осуществлении своей внутренней духовной ценности. Но фактическая возможность повторения зависит от наличности абсолютной и чистой свободы в человеке и предполагает, что человек и реально является таким же абсолютом, каким он мыслится идеально. Однако при осуществлении повторения индивидуум наталкивается на неожиданное препятствие — полной и чистой свободы реально в человеке не оказывается. Индивидуум является столь же связанным условиями временности и необходимости, как и то внешнее, от чего он стремится освободить себя, как свободную этическую сущность. Он видит себя неотвратимо вынужденным поступать, подчиняясь внешним условиям и событиям, случайная цепь которых останавливает его свободное «повторение». Обнаруживается, таким образом, резкое различие между идеалом и наличной действительностью. Личность не обладает полнотой свободы, хотя должна, по самой сущности своей, обладать ею. Следовательно, она сама виновна в том, что не имеет полноты свободы. С другой стороны, если ранее индивидуум рассматривал себя как единственную объективную ценность, вечную и абсолютную, то теперь он не может считать себя таковою. Теперь он вечную и абсолютную ценность должен перенести (по закону качественной диалектики) в другую сферу, совершенно противоположную человеческой личности. Так возникает, вследствие крушения, претерпеваемого человеком в этической стадии, идея вечного существа, обладающего абсолютной свободой и, следовательно, абсолютной объективной ценностью, или Божества. Эта идея и образует психологический переход человека в следующую — третью — форму существования — религиозную стадию, — совместно с теми душевными состояниями, которые возникают в человеке вследствие постигающей его этической катастрофы. Эта катастрофа вызывает идею в и новности личности, психологическим же выражением виновности является р а с к а я н и е, как сознание человеком своего этического ничтожества, своей несоизмеримости с вели-
250
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
чием этических требований. Но раскаяние само по себе категория чисто отрицательная. Оно создает только такую психологическую форму существования, которая аналогична иронии, являющейся переходной формой от эстетической к этической стадии. Эта форма — ю м о р. Человек видит свое этическое бессилие и сознает необходимость бытия этического абсолюта — Бога, но а к т и в -н о не устанавливает своего отношения к себе и Божеству. Поэтому он скрывает внутреннюю трагедию своей жизни и фактически является не тем, что есть. Таким образом, естественное развитие личности дошло до того момента, когда ею должен быть осуществлен ее метафизический идеал — синтез с абсолютным. Практическое осуществление этого идеала всецело лежит в сфере религии, которая вообще есть отношение человека к Богу. Поэтому третья стадия существования личности и называется стадией религиозной. Описание переживания человеком третьей стадии является по своему существу философией религии (и вместе философским истолкованием христианства).
Перейти из этического в религиозное существование значит, прежде всего, активно установить реальное отношение к тому абсолютному и вечному Существу, идею которого человек открывает в глубокой рефлексии над своим собственным состоянием. Мы знаем из гносеологии, что это абсолютное Существо не только непознаваемо, но даже самое признание его бытия устанавливается только верой. Эта же самая вера, но уже как ф о р м а ж и з н и и л и с у щ е с т в о в а н и я, выступает и теперь, когда речь идет об установлении реальных отношений личности к Божеству. Как и там, она вполне сохраняет свой волюнтаристический характер, являясь выбором и решением, т.е. чистым и свободным актом воли. Как выбор, вера предполагает избираемые возможности. Таких здесь две: полное отрешение личности от Бога и поставление ее в качестве самостоятельного и независимого объекта или подчинение личности вceцело Божеству, на ocнове ее полной зависимости от Него. Выбор первого члена дилеммы есть соблазн или отчаяние,выбор второго — вера. На почве раскаяния и юмора, как теоретической резиньяции, возникает момент волевого движения, в котором индивидуум свободно встает на ту или другую сторону. Bеpa, как
251
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
познавательное начало, была страстью рассудка, который, принимая парадокс, этим отменял самого себя. Bеpa, как форма жизни, есть страсть личности, которая всем своим существом поставляет начало, абсолютно противоположное ей самой. Отсюда вера есть состояние крайнего напряжения, переживаемого всей личностью человека. Bеpa, как активное усвоение человеком абсолютного парадокса, сама есть величайшая парадоксальность*, и приводит всвоем диалектическом развитии к самоуничтожению личности. Вступая в вере в религиозное отношение к Богу, человек, будучи существом конечным и условным, должен жить в сфере бесконечного и абсолютного, а потому он и находится в положении рыбы, вытащенной на берег**. Если предоставить религиозное существование его собственной внутренней диалектике, то оно неизбежно приведет к полному самоуничтожению личности перед Абсолютным. Мы это и видим в действительности. По мнению иудеев, созерцание Бога грозит смертью человеку, по мнению язычников, вступление в действительные отношения с Богом есть начало безумия. Но отвечает ли такая религиозность своему идеалу, насколько он определяется самой природой личности? Религиозность должна быть синтезом человека с абсолютным, при сохранении действительности того и другого, — между тем диалектика веры приводит к полному уничтожению одного элемента в другом. Таким образом, в общей форме религиозного существования, создаваемой естественной диалектикой личности, оказывается диалектическое противоречие, заставляющее личность искать путей к созданию высшего, отвечающего постулатам личности, modus vivendi. И человек находит искомую им форму религиозной жизни, но не как результат своего естественного развития, а при посредстве факторов сверхъестественной и трансцендентной природы. Общая религиозность, как крайний предел естественного развития человека и человечества, возможна была и в язычестве, и иудействе (представителем ее был, наприм<ер>, Сократ). Вторая форма религиозности, высшая и совершенная, возможна только в христианстве. В христианской религиозности еще более обостряется парадоксальность и противоречие * Philosoph<iske> Smuler. S. 224.
** Afslutt<ende> uvidensk<abelig> Efterskrift. S. 386 (ср. Hoffding S.K. som Filosof. S. 112-113).
252
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
объекта веры, а вместе и самой веры. Объектом веры является Б о г о ч е л о в е к, т.е. вечное и абсолютное Существо в форме отдельного человека, живущего во времени и условности, подверженного страданиям и смерти. Это соединение элементов абсолютно и качественно противоположных повышает христианскую религиозную веру до крайней степени интенсивности. Богочеловек может быть предметом только или соблазна, или веры. И человек должен пройти через соблазн, чтобы стать верующим. Христос является предметом соблазна и для своих современников, и для всех людей. Иудеи соблазнялись тем, что Христос противопоставлял Себя и Свое индивидуальное Богоотношение наличной действительности окаменевшего иудейства, неподвижной и обожествившей самое себя, — таким образом, являясь человеком, Он ставил Себя выше человека. Каждый человек соблазняется видимым противоречием во Христе: человек, и притом «умаленный паче всех сынов человеческих», действует, как Бог. Это противоречие делает совершенно невозможным для человека прямое и непосредственное признание Христа; даже со стороны Самого Богочеловека невозможно «прямое сообщение» о Себе, потому что оно ввергает человека в мучительную трагедию соблазна. В этом — глубочайшая тайна страданий Христа, из любви к людям спасающего их Своей смертью, но не могущего непосредственно открыть Себя им. Поэтому христианская вера в Богочеловека, прошедшая сквозь теснины величайшего соблазна, рожденная в муках величайшего страдания*, есть тот maximum волевого напряжения, который является вследствие этого и величайшим утверждением личности. Поэтому христианство и устанавливает не слияние, а реальный синтез человека с Богом, — в христианском идеале человеческая личность, несмотря на свое этическое ничтожество и абсолютную противоположность Богу, не исчезает в Боге, а с у щ е с т в у е т в нем. Христианин в акте веры получает утраченную им абсолютную ценность своей личности. Это получение стоит в тесной связи с действием благодати. Благодать есть результат непосредственного и личного общения человека с Богом. Христианство и ставит человека в личное отношение к Богу (Христу), устанавливая этим равенство всех людей
* Indovelse i Christendom. S. 104.
253
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
перед Богом. Личное отношение к Богу необходимо и для возникновения веры, и для восприятия в этой вере Божественной благодати. Мы теперь находимся в таком же положении, как и непосредственные современники Христа, как для них, так и для нас необходимо вступить в личные отношения к Спасителю, чтобы уверовать в Него. Всякие посредства между Христом и человеком — исторические свидетельства и т.п. — не могут создать веры, они имеют лишь побудительное значение, как и для современников Христа. Его непосредственный вид и жизнь были лишь побуждением и поводом к вере*. Bера всех предыдущих поколений не имеет для нас никакого значения, если мы сами, путем личного подвига, не создадим себе веры. В такой вере и за нее человек получает непосредственно от Бога благодать и прощение греха. Устанавливается реальный синтез человека с Богом, и осуществляется идеал, заложенный в самой природе человеческой личности. — Из такого понимания сущности христианства вытекает и то, как нужно смотреть на религиозные взаимоотношения индивидуумов между собою или н а ц е р к о в ь. Религиозная жизнь индивидуума есть постоянный активный процесс усвоения истины или спасения. Этот процесс есть чисто личный и субъективный, потому что истина может осуществляться только в форме индивидуальных переживаний. Поэтому религиозное взаимообщение индивидуумов не имеет для себя никаких оснований. Поэтому христианская религиозная жизнь не может и не должна воплощаться в какие-либо социальные формы. Следовательно, понятие церкви, как действительного органического союза верующих, незаконно. Его допущение ведет лишь к тому, что уничтожается активный характер христианской религиозности, которая вместо деятельного раскрытия и созидания истины становится неподвижным достигнутым результатом. Конечно, невозможно, чтобы люди жили совершенно разобщенно и не входили ни в какие взаимоотношения. Но создаваемая этими взаимоотношениями социальная форма общежития (в религиозной сфере) имеет значение только формальное и служебное — она служит только внешней временной формой проявления действительности, единственным агентом
* Philosoph<iske> Smuler. S. 252-272.
254
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
которой является индивидуум. Впрочем, является мыслимой и иная социальная организация с более действительным значением. Условием ее возможности служит полная реализация религиозного идеала, осуществление религиозного синтеза, успокоение религиозных исканий. В этом случае мы имеем уже не процесс и действие, а результат, и, следовательно, с телеологической стороны здесь нет оснований отрицать идею социальности. Является возможным поэтому социальный организм, в котором члены — не количественные только элементы, но реально объединяются в одной общей им сфере — в одинаковом и равном для всех синтезе с Богом. Но, являясь мыслимой, такая религиозная общественная форма не может быть названа действительной, потому что человечество не достигло и в сфере земной никогда не может достигнуть указанного идеального момента религиозного синтеза; вечное ииде-альное никогда не может быть непосредственно внесено в сферу временного и конечного. Поэтому совершенное религиозное общество есть категория только идеальная и осуществляется лишь в вечности. Следовательно, нужно проводить строгое различие между церковью, как обществом верующих, и церковью, как обществом святых*.
Итак, христианство есть высшая форма религиозности, абсолютная религия. Абсолютность христианства обусловливается тем, что оно в совершенной мере осуществляет абсолютный идеал человека — устанавливает его синтез с абсолютным, при сохранении полной самостоятельности человеческой личности. Но основа этой личности — дух — находится в существенной противоположности к остальным элементам личности с их конечным и условным характером, он противоположен и всему внешнему бытию, миру, с которым необходимо связана физическая природа личности (ср. описание эстетической стадии). Отсюда и высший синтез духа — христианство — не может находиться к миру и природе в иных отношениях, как только в отношениях полной противоположности. Христианский идеал — абсолютная духовность, и потому из него совершенно исключается все то, что принадлежит низшей сфере бытия. Отношения христианства к миру могут выразиться только в форме антагонизма и борьбы. Поэтому истинная христианская религиозность и является всегда борьбой с миром, преодолением его и вме-
* Ibidem, 204-5. Так лютеранский догмат о Церкви видимой в невидимой получает у Кьеркегора своеобразное философское обоснование.
255
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
сте величайшим страданием*. Мир здесь понимается весьма широко, в него входит вся естественная жизнь человека, личная и общественная, со всеми ее проявлениями. Христианство есть отрицание всего «чисто человеческого» (blot Menneskelige) — культуры, образования, даже естественной человеческой любви, брака и дружбы**. Христианство недоверчиво относится к браку и рекомендует безбрачие, ибо оно хорошо знает, что в браке человек ослабевает и делается неспособным к самоотрицанию и самопожертвованию***. Сюда присоединяется и другое основание — «к чему увеличивать количество погибших, не лучше ли, в благодарность за искупление, воздержаться от этого»****. Поэтому с христианской точки зрения семейная жизнь — лишь терпимое зло и уступка. С идеальными требованиями христианства несогласима и человеческая дружба (пример — Петр и Христос). Кто хочет жить по христианскому масштабу, прежде всего, не должен иметь друга*****. Мы имеем перед собой, таким образом, чисто аскетическое христианство, строгое и печальное, в котором для этого мира нет ни малейшей доли сочувствия, в котором безусловно отрицается всякая земная радость.
Идеал христианской этики — Христос, как абсолютный образец для верующих. Отсюда высшей этической нормой для христианина является исследование и подражание Христу. Христос и требует от людей только активного последования, а не пассивного почитания, — последования Его земной жизни, полной страданий и унижений. Эти страдания — результат антагонизма мира и христианства. Поэтому нравственная жизнь христианина, прежде всего, есть самоотречение. Объем этого самоотречения весьма широк, в него входит и внутреннее отречение от собственных эгоистических желаний и целей, и явное отречение от общения с миром, вступление с ним в открытую борьбу и свободное избрание жребия преследования и презрения со стороны мира. Но в самоотречении есть и положительное этическое содержание, основной категорией которого является л ю -б о в ь. Любовь есть реализация веры, устанавливающая
Indov<else> i Christ<endom>, 181-2. Ibid., s. 59, 111. * Ibid., s. 111.
Oieblikket. № 7. S. 254. *** Indov<else> i Christ<endom>. S. 112.
256
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
практическое отношение христианина к действительности. Высший объект любви — Бог, как высшая действительность. Отношения человека к Богу должны быть отношениями всецелой п р е данности, выражающейся в готовности быть «крепостным Божиим» («Kjerligh<edens> Giern<inger>», s. 105), в соответствие тому, что любовь Божия к человеку выразилась в абсолютной преданности — Бог предал Себя за всех людей. Такая любовь к Богу и есть единственно истинная любовь. Чисто человеческая любовь, основанная на инстинкте, склонности, чувстве или рассудочном расчете, корнем своим имеет эгоизм, прикрытый лишь идеей коллективности. Отношения христианина к ближним должны вытекать из любви к Богу, потому что любить человека — значит помогать ему любить Бога. Поэтому любовь к ближним есть, во-первых, любовь к отдельным личностям и не может принимать социального характера, потому что любить Бога можно только в сфере личного Богоотношения; во-вторых, имеет лишь вспомогательное и побудительное значение, так как свое отношение к Богу человек может установить только путем личной активности. Вторгаться в чужую душу и распоряжаться в ней не есть дело христианской любви. Напротив, христианин всегда должен поступать и действовать по отношению к ближним так, чтобы его поступки, даже xopoшие с нравственно-религиозной точки зрения, не внесли какого-либо затемнения в личную религиозную жизнь ближнего. Высшим и ярким проявлением такой рефлективно-диалектической любви к ближним служит тот факт, когда человек отказывается от мученичества за свои религиозные убеждения, чтобы не возложить на совесть своих мучителей греха убийства*. Таким образом, христианская этика есть этика строго религиозная, индивидуальная и устанавливается на основе религиозной рефлексии и создаваемых ею диалектических определений, цель которых — оградить полную независимость личной жизни каждого человека.
Изложенное понимание христианства есть его идеальное понимание, которому оно соответствовало лишь вмомент своего основания Христом. Современное христианство, с точки зрения Кьеркегора, является прямым отрицанием и искажением своей идеальной сущности.
* Tvende ethisk-religiose Smaa-Afhandlinger. I. S. 59-90.
257
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
Вгорячей полемике последних лет жизни Кьеркегор отчетливо указал, в чем именно современное христианство уклонилось от истинного. Прежде всего, в нем забыт основной принцип полной противоположности христианства миру и всему кругу естественной жизни. Поэтому современное христианство исказило самое существенное — веру в Богочеловека, как парадокс. Христос рассматривается в исторической перспективе, как определенное историческое лицо. Но вера в Христа, как в Богочеловека, возникает только при условии непосредственно личного отношения к Нему, а не при посредстве исторического о Нем знания. Опуская из внимания лицо Учителя и отделяя от Него Его учение, современное христианство создает целые теологические системы с ученым критическим обоснованием. Однако христианская вера, которая есть пафос субъективной жизни, никогда не вырастет из объективных научных рассуждений. Но главная ложь современного христианства в том, что, не будучи истинным христианством по существу, оно самоуверенно считает себя подлинным христианством, и это служит неодолимым препятствием к тому, чтобы возвратиться к новозаветному идеалу. Мы живем естественной земной жизнью, всецело привязаны к миру и нисколько не думаем о самоотречении, а между тем называем себя принадлежащими к новозаветному христианству, которое отрицает мир и естественную жизнь. Вся история христианства представляется Кьеркегору, как процесс постепенного обмирщения христианства под влиянием инстинктивного стремления естественного человека отрешиться от сурового и строгого авторитета Нового Завета и жить во всей своей естественной непосредственности. Этому содействовала и та социализация христианства, которая началась уже с первых дней апостольской проповеди. Христианство распространялось слишком экстенсивно (в один день до 3000 человек), и вместо отдельных истинных христиан создавалась безличная масса, общество, налагавшее на каждого члена общие обязанности, затемнявшие в сознании идею личного Богоотношения и ослаблявшие активность личного религиозного действия. Историческое христианство, сохранившее в первые века гонений и преследований некоторую верность Евангелию, окончательно пало тогда, когда оно восторжествова-
258
ДОКЛАД
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
ло внешнюю победу над миром*. Регресс христианства неудержимо увеличивается до наших дней, когда на христианство устанавливается взгляд, как на религию кротости и утешения в земных страданиях. Торжество мирского и человеческого начала представляет протестантство, подчинившее церковь государству, высшей человеческой инстанции. Что же требуется для устранения зла? Здесь теоретический ригоризм Кьеркегора несколько смягчается. Правда, он требует, чтобы современные христиане отказались от союза с человеческой культурой и посвятили себя всецело внутреннему подвигу, борьбе с миром и аскезе добровольных страданий, но вместе сознает всю невозможность полного осуществления этого требования. Поэтому он заявляет, что суть дела не столько во внешних формах, сколько во внутреннем настроении, и потому нужно, прежде всего, освободиться от самообмана, будто мы все христиане, и честно сознаться в том, насколько далеко мы ушли от новозаветного христианства.
Задачей истинной философии всегда было — указывать на незыблемые реальные основы жизни, ее существенные и определяющие моменты, не заменяя подлинной действительности искусственными теоретическими построениями. И философские учения в различной степени всегда так или иначе разрешали эту задачу, хотя нет ни одного из них, которое было бы свободно от невольного искажения жизни, преломляемой в искусственной призме мышления. В философии Кьеркегора также нужно отличать истинное эмпирическое зерно от метафизической оболочки, невольной дани его философским влияниям его времени. Но в ней есть подлинное биение жизни, чувствуется живой нерв всякого истинного философствования — личный жизненный интерес, его философия есть дело его жизни, а не продукт одного только размышления. Если сознание нашего времени начинает более чутко прислушиваться к повелительному голосу живого внутреннего опыта и более ощутительно воспринимать религиозные его обнаружения, если мы стремимся найти посредствующую связь между философским созерцанием и рели* Indovelse i Christ<endom>. S. 210.
259
18.X.1912
М.В. Одинцов. Философия религиозного действия
гиознымь опытом, то отзвуки жизни, сохранившееся в философии Кьеркегора, могут явиться для нас благотворными возбудителями истинного философского пафоса и уберечь от уклонений в бесплодную пустыню чистой логистики интеллектуализма или мертвой механичности натурализма.
М. Одинцов
ЗАСЕДАНИЕ 22 НОЯБРЯ 1912 г.
Н.К. Никольский
О древнерусском христианстве*
I
И в светской и в духовной печати было потрачено немало усилия для того, чтобы подметить, что такое русское православие в его существенных отличительных признаках.
Такой интерес к вопросу вполне естественен. Православие есть та религиозная идеология, под влиянием которой складывался и, вероятно, долго еще будет складываться строй жизни не одного десятка миллионов людей. Это — один из главнейших устоев морали, на правилах которой воспитывается будущая Россия — школьное юношество. Это — одна из тех жизненных норм, с которою даже помимо желания вынуждены считаться законодатели, общественные организации и отдельные лица. Это — то знамя, под руководством которого русское славянство накопляло свои силы для исторической борьбы. Это, наконец, — та исходная точка, с которой начинались личные религиозные переживания почти каждого из нас.
Казалось бы, что не может быть затруднения определить основные черты этой общеизвестной и всем доступной религии.
* Доклад этот, читанный на заседании С.-Петербургского Религиозно-философского общества 22 ноября 1912 года, составляет краткое извлечение из подготовляемого к печати очерка истории древнерусской религиозной идеологии, в котором автор намерен изложить более подробно свои соображения и обнародовать те оправдательные материалы, которые привели его к сделанным наблюдениям.
261
22.XI.1912
Н.К. Никольский. О древнерусском христианстве
Однако, когда говорят о католичестве, о протестантстве, об англиканстве, тогда возникают более или менее определенные представления об особенностях этих вероучений.
Но как только заводят речь об особенностях православия, получается нечто неожиданное и странное. Несмотря на миллионы православных, сущность их веры расплывается в какую-то тень, которую никак нельзя уловить, несмотря на всю ее близость.
Вследствие этой неопределенности целый ряд насущных для текущей жизни вопросов остается без своего разрешения. И даже лица, искренно желающие принадлежать к православной церкви, во многих случаях недоумевают, что им следует признавать, от чего удаляться, к чему стремиться, чего избегать, с чем сообразовать свои поступки для того, чтобы не порывать связи с тою верою и тою Церковью, к которым привыкли с детства и раставаться с которыми для многих так мучительно тяжело.
Допустимо ли в православии бескорыстное стремление к истине независимо от тех результатов, к которым такое стремление может привести? Или же русская вера — наподобие католичеству — освящает только то, что служит ее утилитарным целям? Благословляет ли она свободную науку и порывы к правде или же склонна поддерживать только то, что пригодно для ее специального успеха?
Состоит ли она из живых принципов или же из точно очерченной суммы неприкосновенных умозрений, формул и обрядов, отступление от которых грозит еретичеством?
Совместимы ли с православием прогресс и культура или же неизбежными спутниками русской веры должны сделаться реакция и застой как в области церковной, так и в области государственной жизни?
Насколько обязательны для членов Церкви каноны и внешний status quo ее, с ее обрядностью и иерархическими предписаниями?
Можно ли быть православным и в то же время одобрять войну и смертную казнь, не гнушаться насилия, воинственно и брезгливо относиться к инородцам и иноверцам или же следует руководиться учением о непротивлении злу?
Составляет ли русское православие вселенскую веру или только национальную религию?
Где в православии высший и более обязательный идеал добродетельной жизни: в монашестве ли с его дев-
262
ДОКЛАД
Н.К. Никольский. О древнерусском христианстве
ством и отречением от мит^, или же в старании приблизиться ко всем тем совершенствам, носителем которых был Христос?
Вот некоторые из многих вопросов, которые не для всех приобрели значение чисто академического интереса. С подобных вопросов нередко начинается крушение личной веры. Решение их было бы совсем несложным делом, если бы все располагали одним более или менее бесспорным представлением о сущности православия.
Между тем, если бы мы попробовали сделать по этому поводу анкету, то встретили бы самые разноречивые суждения, самые оригинальные углы зрения, которые не раз обнаруживались и на религиозно-философских собраниях.
Ни для кого не секрет, что для одних православие это — символ мракобесия, для других это — та духовная атмосфера, без которой невозможна дальнейшая жизнь русского человека. Всем также известно, что православие покойного митрополита Антония175 не было православием Антония Волынского176, православие Антония Волынского не есть православие епископа Антонина177, православие епископа Антонина не есть православие епископов Сергия и Феофана178.
Тот собор, о котором так много писали и говорили, на который даже надеялись, хотя, конечно, напрасно, разве не вырос в глазах общества главным образом потому, что стали верить в конец сомнений, в разрушение при его помощи тех неурядиц, противоречий и недоумений, до которых опустилась современная церковная жизнь?
Православие — как историческая путеводная звезда, объединявшая собою когда-то общественные классы, давно уже не блещет в народном сознании как звезда одинаковой для всякого глаза величины с вполне установившимся движением*.
Не без оснований поэтому старообрядцы называют православие господствующей Церкви блуждающим бого-словием179.
Правда, официозная духовная литература уже давно придумала остроумный способ выхода из всех своих неопределенностей, направляя православие в русло между католичеством и протестантством. Но умение проскольз-
* Само собой понятно, что здесь идет речь не о недостатке формул, а о невыясненности принципов.
263
22.XI.1912
Н.К. Никольский. О древнерусском христианстве
нуть между ними не равносильно ли признанию, что сущность православия зависит от сравнительно поздних ошибок и наслоений в чужих исповеданиях?
Что же касается попыток обрисовать п оложи-тельную сторону православия, то всегда они были и остаются субъективными опытами приблизиться к его пониманию.
При этом чем чаще и настойчивее раздаются утверждения, что православием называется такое-то именно мировоззрение с такими-то именно особенностями, тем почти несомненнее, что здесь мы встречаемся с желанием индивидуальное освоение веры или личное мнение о ней провозгласить как нечто общепринятое и общеобязательное. Подобно тому, как истинно нерусские люди пытаются сделать принудительными для всех русских свои поползновения, выдавая их за истинно русские, но презрительно относясь к желаниям большинства, точно так же личная уверенность как в своем православии, так и в своем правильном истолковании его сущности мало дает полезного материала для точного представления о нем.
Истинно русским мы вправе называть не то, что нам навязывают отдельные кружки или лица, а то, что свойственно природе русского народа, что составляло и составляет его действительную волю, его типическую мысль, его обычное настроение и пылкую мечту. Точно так же под православием мы должны разуметь не единичные опыты истолкования его, откуда бы они ни исходили и чем бы они ни прикрывались, а церковно-народное понимание его сущности.
Весь вопрос, таким образом, и заключается в том, откуда и как мы могли бы добыть наиболее точные сведения о таком именно понимании.
Следует сознаться, что тут пред нами вырастает неожиданно весьма крупная преграда.
Представить объективное определение сущности современного православия затруднительно, между прочим, потому, что для этого приходится не фотографировать наличное вероучение, а незаметно для наблюдателя объединять разнородные элементы, сливая несходные кругозоры в одно общее представление, именно: с одной стороны, школьно-богословские системы наши, которые не раз изменялись сообразно с переменами в курсе цер-
264
ДОКЛАД
Н.К. Никольский. О древнерусском христианстве
ковной политики, которые вырастали на попытках найти мертвую точку между католическими и протестантскими доктринами и которые связаны с ними своим происхождением и методологически; с другой стороны, ту веру народа, которая соприкасается с богословскими системами только чрез школу и чрез иерархическое учение, а в своем корне и ростках значительно отдалена от них. Насколько неодинаковы те и другие представления, видно из истории сектантства в синодальный период. Небывалое в старое время обилие сект, появившихся в XVIII и XIX столетиях, служит слишком красноречивым показателем того, что народные тяготения не удовлетворяются учением и содержанием катехизиса, который чрез учебное ведомство принудительно водворяется повсюду. Народ, как и интеллигенция, ищут для себя чего-то такого, чего они ни в Церкви, ни в ее катехизисе не находят.
Таким образом, каждая попытка разгадать положительную сущность русского православия заключает в себе не простую передачу наблюдений над фактом (т.е. православием) на язык более или менее точных определений, но в то же время содержит опыт субъективного согласования в одном общем представлении по крайней мере двух концепций: православия — школьно-богословского и православия народно-церковного.
Само собою понятно, что при подобном положении вещей сущность русского православия роковым образом будет надолго обречена оставаться квадратурою круга, если только к выяснению этого огромной важности вопроса не применить более целесообразного способа его разрешения.
Такой способ, как мне представляется, не может обойтись без русского исторического богословия допетровской эпохи, т.е. тех столетий, в которые еще не было налицо позднейшей дифференциации в религиозном мировоззрении общественных групп.
Ведь почти с XI до XVII века Церковь была единственною организациею на Руси, которая руководила религиозным воспитанием русского человека. Какое могучее средство заключалось в таком праве, показывает история католицизма на Западе. Папская Церковь, благодаря деятельной пропаганде, превратилась там
265
22.XI.1912
Н.К. Никольский. О древнерусском христианстве
в такую духовно-политическую силу, борьба с которою целые века оставалась малоуспешною.
Русская же Церковь, не знавшая подобной острой борьбы почти до конца XVII века, пользовалась, наоборот, в своей деятельности поддержкой государственной власти и потому располагала большею возможностью сделаться всепроникающим элементом народной жизни.
Главное значение Церкви, как исторической величины (не говорю об ее религиозном значении), вытекает именно из того, что она заправляет религиозною и моральною идеологиею народных масс.
В